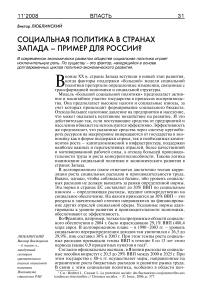Социальная политика в странах запада - пример для России?
Автор: Люблинский Виктор Викторович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социальное государство
Статья в выпуске: 11, 2008 года.
Бесплатный доступ
6 современном экономически развитом обществе социальная политика играет исключительную роль. По существу - это фактор, находящийся в основе долговременных циклов политико-экономического развития.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169190
IDR: 170169190
Текст научной статьи Социальная политика в странах запада - пример для России?
В конце XX в. страны Запада вступили в новый этап развития, когда факторы поддержки «большой» модели социальной политики претерпели определенные изменения, связанные с трансформацией экономики и социальной структуры.
Модель «большой социальной политики» предполагает активное и масштабное участие государства в процессах воспроизводства. Она предполагает высокие налоги и социальные взносы, за счет которых происходит формирование социального бюджета. Отсюда большее налоговое давление на предприятия и население, что может оказывать негативное воздействие на развитие. И это действительно так, если поступающие средства от предприятий и населения в бюджет не используются эффективно. Эффективность же предполагает, что указанные средства через систему кругооборота ресурсов на макроуровне возвращаются от государства в экономику как в форме поддержки спроса, так и необходимых компонентов роста – капиталовложений в инфраструктуру, поддержки наиболее важных и перспективных отраслей, более качественной и мотивированной рабочей силы, а отсюда большей производительности труда и роста конкурентоспособности. Такова логика взаимосвязи социальной политики и экономического развития в странах Запада.
В долговременном плане отмечается достаточно тесная корреляция роста социальных расходов и производительности труда. Важно, однако, чтобы соблюдался баланс, ибо уровень социальных расходов не должен выходить за рамки определенной нормы. Эта норма в странах ЕС составляет до 20% ВВП по социальным взносам – определяющая расходы, идущие непосредственно на социальное обеспечение. На налоги приходится до 30% ВВП – эти ресурсы в значительной степени направляются на финансирование других отраслей социальной сферы. Указанные нормы адаптированы к уровню развития и производительности экономики, обеспечивают ее эффективность.
ЛЮБЛИНСКИЙ Виктор Викторович – д. полит. н., заведующий сектором сравнительного анализа социальной политики Института социологии РАН
Во Франции, например, только на программы в области социального обеспечения в 2004 г. было израсходовано 29,1% ВВП (480,4 млрд евро). В долговременном плане – в 1990–2003 гг. – уровень социального перераспределения доходов там увеличился с 26,5 до 29,9%, пик составил 30% в 2003 г. При этом темпы роста социальных расходов превышали темпы ВВП в течение 8 из 13 лет этого периода (выше 0,9 процентных пунктов в год)1.
Согласно официальным оценкам, в Японии расходы на социальные пособия возрастут с 20,5 до 29% ВВП между 2000 и 2025 г. При этом государство с 80-х гг. осуществляет меры, направленные на ограничение роста бюджетных расходов и развитие рынка труда. В связи с этим социальная политика, особенно в области пен- сионного обеспечения и медицинского обслуживания, сводилась к сохранению на достаточном уровне социальных взносов активного населения. Подсчитано, что расходы на эти цели возросли с 32 до 41,6% общих расходов бюджета1.
Суть процесса модернизации государства благосостояния в странах Запада на современном этапе предполагает серьезную реорганизацию социальной сферы, переход от пассивной к активной социальной политике – с акцентом на трудоустройство, профессиональную подготовку, помощь молодежи, инвалидам и престарелым, решение проблемы бедности и социального исключения. Особый акцент сделан на реформах пенсионного обеспечения и медицинского страхования. Основная цель состоит в сокращении темпов роста социальных расходов. Но во многом «кризис» государства благосостояния представляет собой внешнее выражение завершения предыдущей фазы перераспределения доходов и начала новой, в рамках которой выражается «бунт богатых» (по образному выражению Дж. К. Гэлбрейта).
В то же время особенность современной эволюции государства благосостояния состоит в том, что оно развивается в условиях глобальной экономики. Сформировалось понятие внешней соци-альнойполитики,отражающеекачествен-ный характер изменений. Преимущества в производительности труда пока позволяют многим странам Запада поддерживать конкурентоспособность при сохранении высоких уровней зарплаты и социальных расходов, выступающих как фактор мотивации труда и роста социального капитала. Реформы социальной сферы призваны обеспечить эффективный компромисс между конкурентоспособностью и социальной политикой.
Указанные моменты, однако, отнюдь не ставят под вопрос фундаментальные принципы, лежащие в основе социальной политики экономически развитых стран.
Социальной политике государством отводится ключевая роль в развитии общества, она рассматривается как условие его социально-экономической эффективности, политической стабильности и международной конкурентоспо- собности. Например, на уровне первичного распределения доходов уровень бедности (граница 50% медианного дохода) составляет 14–26%, но при перераспределении – уже 4–17%. Во Франции он снижается с 25 до 7%, в Дании – с 17 до 4%.
Важным фактором справедливости является характер налогово-бюджетной системы. В странах Запада основные налоговые поступления «падают» на состоятельные группы населения.
Согласно данным экспертов ОЭСР, на 30% населения, занимающего верхние позиции в социальной структуре первичного (рыночного) распределения доходов, приходится от 48,7% налоговых платежей в Дании, до 67,9% во Франции при среднем уровне в 59,4%. Для средних категорий применяется модель умеренной налоговой политики – их вклад составляет от 23,5% во Франции и 28,4% в США до 35–37% в ФРГ, Норвегии, Нидерландах, Швеции и Дании. Характерно, что чем ниже общий уровень дифференциации доходов, тем выше доля менее обеспеченных в бюджетных поступлениях: в скандинавских странах она составляет 9 14% при среднем уровне в 8%2.
В последние десятилетия, в частности в 90-е гг., развивалась тенденция к росту доли наиболее состоятельных групп и уменьшение нагрузки, которую несут средние слои.
Особый интерес представляют реформы по основным направлениям социальной политики – в области пенсионного обеспечения и здравоохранения.
Пенсионная реформа
Развитие пенсионных систем необходимо рассматривать в контексте сдвигов в социально-демографической структуре населения, уровне его благосостояния (доходов), а также условий внутренней и международной конкуренции. Особенность современного этапа – в том, что на первый план вновь выходят экономические цели. Отсюда изменения в стратегической политике, которая исходит из минимизации социальных целей. Она направлена на стимулирование профессиональных пенсионных систем и добровольного пенсионного страхования на предприятиях, групповых и индиви- дуальных сберегательных и пенсионных планов.
Анализ социальной политики в странах Запада показывает с достаточной определенностью, что в основе борьбы вокруг стратегии развития общества в целом и пенсионных систем в частности лежит проблема распределения национального богатства. Первоначально вопрос о реформах связывался с необходимостью отказа от модели, основанной на принципах социальной солидарности (распределительная модель), и формирования новой модели, основанной на механизмах конкуренции и накопления (накопительная модель). Доказывалось, что пенсионное обеспечение необходимо привести в соответствие с принципами рыночной экономики, а значит, во главу угла должны быть поставлены факторы эффективности, роста богатства и индивидуальной ответственности.
Между тем необходимо отметить, что в макроэкономическом плане между типами пенсионной системы с точки зрения уровня обеспечения фактически отсутствует различие, ибо основной вопрос – распределение доходов между активным населением и пенсионерами, доля соответствующих расходов в ВВП. В любом случае, если решается проблема роста пенсионных доходов, это означает рост соответствующей нагрузки на активное население. В то же время ее снижение может означать только одно – снижение уровня доходов пенсионеров. В этом смысле вопрос о механизмах финансирования пенсионных систем не является первостепенным. Главное – это обеспечение экономического роста и роста производительности труда, а также характер социального распределения доходов.
Традиционные (классические) распределительные системы по-прежнему играют доминирующую роль в пенсионном обеспечении большинства стран Запада. В Бельгии она охватывает около 70% пенсионеров. В ФРГ показатель выше – 82% занятых, причем 63% средств поступает за счет страховых взносов, а 37% – из федерального бюджета. Во Франции на распределительную систему приходится 98% совокупных расходов на пенсионное обеспечение1.
Государственные системы остаются важнейшим источником доходов пенсионеров. В частности, в среднем в ФРГ на них приходится 66% доходов, в то время как на другие пенсионные системы – 21%, на трудовую деятельность – 4%, доходы в форме процента, от сдачи имущества внаем и страхования жизни – 7%, а на жилищное пособие – 1%. Даже в западных землях они обеспечивают 57– 68% доходов пенсионеров (в восточной части страны – 89–95%), хотя на частные пенсионные системы там приходится 22–26% (в восточной части – 2%)2.
В Швеции прежняя распределительная система будет постепенно сворачиваться – она распространяется на граждан, выходящих на пенсию до 2017 г. При среднем уровне дохода общий уровень пенсии в рамках системы 1 уровня составил 57% в 2003 г., при этом 20% приходится на новую и 80% – на старую систему. Второй уровень охватывает крупные профессиональные пенсионные системы коллективно-договорного типа, охватывающие 90% работников. Они также находятся в процессе постепенного перехода к системе с фиксированными взносами. Роль профессиональных систем в Швеции значительна, они обеспечивают повышение суммарной средней пенсии до 71%. Если иметь в виду различные позиции на шкале доходов, то размер пенсии обратно взаимосвязан с уровнем дохода. Однако в перспективе предполагается установить прямую корреляцию между этими показателями. В результате к 2050 г. при доходах от 100 до 200% от среднего размер пенсии составит 66,7%, что будет на 10-11 процентных пунктов выше, чем у менее обеспеченных групп3.
Страны с традиционно высокоактивной социальной политикой и большой ролью государства в обеспечении социальных доходов вынуждены пересматривать прежние стандарты – по крайней мере, в рамках обязательных пенсионных систем. В ФРГ, например, поставлена цель – сохранить пропорцию в 67 68% от средней зарплаты рабочего при условии 45-летнего страхового стажа в рамках законодательно установленной системы в 2030 г.
Вопрос об уровне замещения доходов является одним из центральных в проводимых реформах пенсионного обеспечения. Социальная стратегия многих стран ЕС фактически предусматривает ужесточение условий предоставления пенсий, в частности за счет увеличения учитываемых периодов трудового стажа. В новых условиях предполагается учет более продолжительных периодов, а то и всего периода трудового стажа, что снижает расчетный показатель зарплаты.
Реформа системы медицинского страхования
Эта сфера одна из наиболее затратных в структуре социальных расходов. Во всех промышленно развитых странах складывается примерно одинаковая картина: опережающий рост расходов на здравоохранение. В США в 1982 г. Они составили менее 10% ВНП, в 2003 г. – более 15%, а в 2013 г., по прогнозам, – 18%. Наименее высокий уровень отмечается в Великобритании и Японии – 7,6%, во Франции – 10%1. Эта тенденция, отражающая возросший уровень благосостояния и экономического потенциала общества, в определенной степени обусловила рост продолжительности жизни.
В большинстве стран в той или иной степени государство осуществляет регулирование ценообразования и объема услуг в секторе здравоохранения. Государство может ограничивать зарплату медицинского персонала, но это средства прямого воздействия, которые применимы в рамках государственной модели медицинской помощи. В других системах тарифы на медицинские услуги и товары, как правило, устанавливаются административным путем или под контролем государства, но на основе их согласования между производителями и потребителя-ми2. Однако ценовой контроль в данной сфере весьма относителен и сопряжен с немалыми административными издержками.
Один из важных аспектов реформирования социальной политики в этой сфере в странах Запада в последние десятилетия связан с изменением институциональной структуры (соотношения государства и рынка) в пользу расширения границ рыночного регулирования, увеличения доли финансирования со стороны потребителей. Этот процесс развивался повсеместно, но в различной степени, начиная с 80-х гг. Особенно это коснулось расходов на лекарственные средства – в частности, стоимость некоторых видов лекарств, например успокаивающих или не имеющих доказанной терапевтической ценности, перестала возмещаться.
В целом же меры, направленные на разделение затрат, мало повлияли на уровень государственных расходов. И хотя рост этой доли в общих расходах на цели здравоохранения замедлился, за 20 лет (к 2000 г.) она снизилась в странах ОЭСР с 74 до 72%3.
Не удивительно, что эти меры не привели к выравниванию темпов роста расходов на здравоохранение и общего экономического роста, а на достижение этой стратегической цели была направлена с 80-х гг. новая социальная политика. Ее весьма ограниченная эффективность обусловливалась тем, что структурные факторы, в частности изменение демографического профиля населения и рост продолжительности жизни, во многом определяют общую тенденцию. В США медицинское обслуживание обеспечивается в основном частным сектором: 75% граждан имеют добровольное частное страхование. Иными словами, регулирование этой сферы осуществляется рыночными механизмами, вмешательство государства ограничивается обслуживанием наименее обеспеченных категорий и престарелых. В ФРГ принята модель развития системы медицинского обслуживания, предусматривающая активную роль профсоюзов медицинских работников, принцип тарифной автономии и самоуправления, модель непрерывного переговорного процесса между социальными партнерами. При этом медицинские кассы несут часть ответственности за управление бюджетными средствами, их представители участвуют в обсуждении бюджета здравоохранения, размер оплаты при этом адаптируется в соответствии с бюджетом.
Сравнительный анализ показывает, что в странах Западной Европы расходы государства на здравоохранение на 20–40 процентных пунктов превышают американский уровень. Наиболее высоки они в Швеции и Великобритании – соответственно 85,0 и 80,9%, несколько ниже во Франции, ФРГ и Италии, что совершенно несопоставимо с уровнем США (44,2%). При этом необходимо отметить, что американская модель, судя по долговременной тенденции, эволюционировала в сторону повышения доли государства, в то время как в странах ЕС ее уровень оставался прежним или даже сократился, как, например, в Великобритании (снижение на 7% с 1970 г.), а также Швеции и ряде других государств.
Возможныдвавариантатрансформации социальной политики. Первый связан с возможностью снижения общего уровня социальных расходов, которое общество будет вынуждено так или иначе принять и адаптироваться к нему. Это связано с ростом конкуренции со стороны компаний стран с более низкими издержками производства, в особенности – более низкой оплатой труда при аналогичном уровне качества продукции. С другой стороны, это заинтересованность соответствующих стран в привлечении прямых иностранных инвестиций. Второй – гипотетический вариант повышения этой нормы связан в долговременной перспективе с возможным новым рывком в производительности труда в условиях научно-технической революции XXI в.
Социальная политика и модернизация общества в России
При формировании стратегии социальной политики России необходимо учитывать то, что она находится на особом этапе развития, когда главная проблема – это достижение стратегической социально-политической устойчивости общества, связанной с формированием основы этой стабильности – массового среднего класса постиндустриального типа.
Особое значение в этом плане имеет политика, ориентированная на снижение социальной дифференциации доходов. Такая стратегия соответствует решению задачи роста мотивации и способна обес- печить консолидацию общества, стать существенным фактором решения социально-экономических проблем.
При формировании социальной политики в России следовало бы прежде всего учитывать следующие макроэкономические и институциональные аспекты:
-
2) Необходимость трансформации межотраслевой и социальной моделей распределения доходов. Проблема состоит в том, чтобы формировать эффективно функционирующую систему, при которой стимулируется рост инновационного сектора высокотехнологичных отраслей экономики в сочетании с ростом человеческого капитала.
Иногда российские исследователи обращают внимание на особенность социально-экономической политики России низкую долю заработной платы в ВВП (нередко она занижена до 30% ВВП, в то время как норма западных стран значительно выше указывается цифра в 70%). По всей видимости, «российский» показатель в данном случае не включает все элементы агрегата зарплаты. В отношении западных стран эта доля, скорее всего, рассчитывается применительно не к ВВП, а к национальному доходу. В результате картина несколько искажается, хотя это не имеет принципиального значения, ибо разрыв, несмотря на происшедшие изменения, сохраняется.
Согласно официальным данным, доля оплаты труда в ВВП России составила в 2004–2007 гг. 44–46% ВВП. Это означает, что формально она находится на уровне некоторых европейских стран. Однако данный показатель включает непомерную долю так называемой скрытой зарплаты, которая оценивается примерно в 12% ВВП. При этом в США доля оплаты труда составляет 60%, в Швеции и Великобритании – 56%, во Франции – 52% ВВП. Кроме того, необходимо учитывать, что Россия существенно отстает от развитых стран по уровню расходов на социальное обеспечение, здравоохранение и образование, а это важнейшие факторы, оказывающие существенное влияние на уровень жизни («социальная зарплата») и характер экономического развития.
Структура ВВП по доходам – важнейший показатель для принятия стратегических решений в сфере государственного управления, ибо позволяет осуществить общее «сканирование» социальноэкономической системы.
В России в 2004 г. доходы консолидированного бюджета составили 32,4% ВВП, в 2005 и 2006 гг. – 39,7%, в том числе федерального – соответственно 20,1; 23,7 и 23,4%. Налог на добавленную стоимость составил 6,3 и 6,8%, а в 2006 г. – 5,6% ВВП; акцизы – 1,4% (в федеральной части этого налога – 0,7%), 1,2% (0,5%) и 1,0% в 2006 г. Суммарно чистые налоги на производство и импорт, согласно официальным данным, составляют 19–20% ВВП в 2006–2007 гг.
В то же время расходы составили в 2004 г. 27,9% ВВП (в том числе федерального бюджета – 16,1%), в 2005 г. – 31,6% (16,3%), в 2006 г. – 31,3%. При этом на развитие социальной сферы (включая жилищно-коммунальное хозяйство) приходится суммарно около 19% ВВП (данные 2006 г.), из них на образование и здравоохранение (включая спорт) соответственно 3,9 и 3,6%, а на социальную политику (в узком смысле) – 8,8% ВВП.
Это означает, что в России суммарная (относительная) доля прибыли (включая проценты) больше, чем на Западе. Однако пока это не привело к адекватному результату – росту эффективности экономического развития. Парадоксально, что в условиях столь высокой дифференциации доходов проводится политика пропорционального налогообложения. В условиях такой социальной поляризации, как в России, она не может быть основана иначе как на соразмерной прогрессивной шкале.
В этом плане весьма актуально для России замечание Дж. Стиглица, что «…развитие – это больше, чем простое накопление капитала и снижение уровня диспропорциональности (неэффективности) экономики. Это трансформация общества, изменение курса относительно практик и способов традиционного мышления … необходимо, по меньшей мере, озаботиться положением трудящихся, их обеспеченностью и гарантиями»1.
Национальные проекты – важная новация социальной политики в России. Однако необходимо заметить, что даже с учетом дополнительных средств, выделенных на их реализацию, общий уровень социальных расходов не дотягивает до относительных показателей, существующих в экономически развитых странах.
Необходимо учитывать, что фактор доверия (социальный капитал) является продуктом культуры общества, сложившихся формальных и неформальных норм поведения людей и их взаимоотношений. Согласно исследованиям, наиболее высокий уровень доверительных отношений в обществе отмечается в Норвегии – 65,3%; Швеции – 59,7%; Дании – 57,7%; Нидерландов – 52,4%. В Японии от составляет 46,0%; ФРГ – 41,%; США – 35,6%; Италии – 35,3%; Великобритании – 31,0%; во Франции – 22,8%; Португалии – 21,4%; Турции – 6,5%2.
Новая социальная политика способна привнести в общество и экономику необходимую мотивационную энергию человеческого фактора, а это крайне необходимо в условиях, когда страна должна решать трудные проблемы, связанные с формированием экономики инновационного типа. В выступлении В. В. Путина в мае 2008 г. на заседании нового правительства России вопрос поставлен вполне конкретно – о необходимости «современной социальной политики, направленной на формирование условий для полноценн ого развития человека».