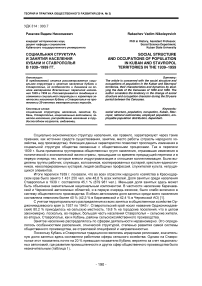Социальная структура и занятия населения Кубани и Ставрополья в 1939-1959 гг.
Автор: Ракачев Вадим Николаевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
В предлагаемой статье рассматривается социальная структура и занятия населения Кубани и Ставрополья, их особенности и динамика на основе материалов Всесоюзных переписей населения 1939 и 1959 гг. Рассматривается тенденция в изменении социальной структуры и характера занятости населения Кубани и Ставрополья на протяжении 20-летнего межпереписного периода.
Социальная структура, население, занятия, кубань, ставрополье, национальные автономии, занятое население, распределение населения в трудоспособном возрасте, иждивенец
Короткий адрес: https://sciup.org/14936611
IDR: 14936611 | УДК: 314
Текст научной статьи Социальная структура и занятия населения Кубани и Ставрополья в 1939-1959 гг.
Социально-экономическую структуру населения, как правило, характеризуют через такие признаки, как источник средств существования, занятие, место работы (отрасль народного хозяйства, вид производства). Фиксация данных характеристик позволяет проследить изменения в социальной структуре общества связанные с общественными процессами. Так в переписи 1939 г. была применена группировка общественных групп населения, отразившая изменения в политической и экономической жизни страны, прошедшие со времени предыдущей переписи и в первую очередь тех, которые внесли индустриализация и сплошная коллективизация. Были выделены группы рабочих, служащих, колхозников, кооперированных кустарей, крестьян-единоличников, некооперированных кустарей, людей свободных профессий, служителей культа, нетрудя-щихся элементов.
Итоги переписи 1939 г. показали, что во всех отраслях народного хозяйства в Краснодарском крае было занято 1 431 250 чел. или 48,8 % всех жителей. Доля занятых среди населения Ставрополья в 1939 г. составляла 45,1 % (879 981 чел.). Меньшая доля занятых здесь может быть объяснена значительным национальным компонентом. В частности население Карачаевской и Черкесской автономных областей, и в первую очередь женское, было слабо включено в систему общественного производства. В обеих автономиях доля занятых среди всего населения составляла немногим более 40 % (42,3 % в Карачаевской и 42,4 % в Черкесской АО) [1].
С учетом территориального распределения из всех занятых в общественном хозяйстве Ор-джоникидзевского края (с 1937 по 1943 г. Ставропольский край носил название Орджоникидзев-ский) 80,2 % приходилось на сельскую местность, 19,8 % на городские поселения, что в целом закономерно, поскольку, во-первых, большая часть населения Ставрополья – сельские жители, во-вторых, Ставрополье, как и Кубань, районы сельскохозяйственного производства.
Занятое население распределялось по сферам деятельности неравномерно. Это определялось особенностями расселения, этнической структурой, степенью развития самой системы общественного производства, ее отраслевой спецификой и направленностью.
Поскольку Кубань и Ставрополье традиционно являлись аграрными регионами, значительную долю занятых здесь составляли работники сферы сельского хозяйства. Однако на Ставрополье этот показатель почти на 20 % превышал показатели Кубани, вероятно за счет национальных автономий, где развитие промышленности и других сфер общественного производства было незначительным (таблица 1).
Таблица 1 – Распределение населения Кубани и Ставрополья по сферам деятельности в 1939 г., %
|
Сферы деятельности |
Краснодарский край |
Орджоникидзевский (Ставропольский) край |
|
Промышленность |
10,2 |
9,3 |
|
Сельское хозяйство |
44,9 |
62,7 |
|
Строительство |
3,5 |
3,4 |
|
Транспорт и связь |
6,2 |
3,8 |
|
Здравоохранение |
1,7 |
3,8 |
|
Государственные учреждения, партийные и общественные организации |
2,4 |
3,4 |
Доля занятых в сельском хозяйстве в Карачаевской и Черкесской АО составляла 67,4 и 61,2 %, в промышленности – 9,6 и 9,5 % соответственно.
По масштабам промышленного производства Кубань несколько опережала Ставрополье, что также нашло отражение в более высокой доле занятых в данной сфере деятельности. Так же более развитой и в силу этого сосредоточившей большую долю работников на Кубани была сфера транспорта и связи, в том числе за счет морского и речного транспорта. Ставрополье, напротив, имея широкую сеть курортов и лечебно-оздоровительный комплекс, имело более высокую долю работников в сфере здравоохранения [2].
В конце 1920–1930-е гг. усиливается процесс вовлечения населения, особенно женщин, в сферу общественного производства, снижается доля неработающего населения. Однако дифференциация по полу в сфере занятости остается еще весьма заметной.
Так доля мужчин, имеющих занятия, во всем населении составляла около 55 % по стране, на Кубани – 58 %. Их занятость на Ставрополье была на порядок выше чем у женщин – 55 % против 36 %, при этом их доля – занятых в общественном производстве в сельской местности – ниже, чем в городе. В городах и городских поселениях доля занятых женщин здесь составляла 29,7 %, в сельской местности – 19,7 %. Доля мужчин, имевших занятие, в городе составляла 60 %, в селе – 48,8 %. В целом уровень занятости на Ставрополье соответствовал доле трудоспособного населения, которая здесь в 1939 г. составляла 57 %, причем в городских поселениях доля этой возрастной категории была выше – 65,6 %, а в селе – 54,8 %.
В Карачаевской и Черкесской АО доля мужчин среди занятого населения составляла 60 %. В городах этот показатель был еще большим: в Карачаевской АО в городе среди занятых было 64,3 % мужчин, в Черкесской – 70,3 % [3].
Таким образом, доля занятых незначительно, но превышает долю трудоспособных, поскольку часть населения в более старших или младших возрастах так или иначе оказывается вовлеченной в различные виды деятельности.
Согласно данным переписи 1939 г. среди всего занятого населения Ставрополья 58,2 % составляли мужчины и 41,8 % женщины. Причем в городе среди занятых почти вдвое больше мужчин, чем женщин (65,1 и 34,9 %), в сельской местности это соотношение выглядело как 56,5 и 43,5 %.
Заметно снизилась доля иждивенцев среди мужского населения, на Кубани в 1939 г. она составляла 41,2 %. Здесь же возросла доля женщин, имевших занятия (до 42 %) и резко сократилась среди них доля иждивенцев до 50,3 % [4].
Как уже отмечено выше, значительная часть населения и Кубани и Ставрополья сосредотачивалась в сельском хозяйстве. Здесь преобладал женский труд. В сельскохозяйственном производстве Кубани, например, доля женщин составляла 57,9 %. Самый высокий процент их занятости представлен в таких отраслях, как: общественное питание, медицина, текстильное и швейное производство.
Исключительно мужскими сферами деятельности были металлургия, горная промышленность, рыболовство, лесная промышленность и прочее. Показательно, что среди руководителей парторганизаций, государственных, кооперативных, общественных учреждений и предприятий мужчины так же составляли подавляющее большинство – 89,4 %. Абсолютно их преобладали в таких видах занятий как юридический персонал, работники охраны и безопасности, работники в сфере искусства. Значительной была доля мужчин, занятых в промышленной сфере, строительстве и транспорте.
Низкая занятость женщин в общественном производстве компенсировалась их занятостью в подсобном хозяйстве. Так на Ставрополье среди членов семей, занятых в подсобном хозяйстве 97,8 % составляли женщины и 2,2 % мужчины. В городе доля женщин этой категории достигала 99,1 %, на селе 97,8 %.
В городах и городских поселениях Ставрополья сферами общественного производства, сосредоточившими основную часть занятого населения, были промышленность, затем сельскохозяйственная деятельность, а также здравоохранение, торговля и общественное питание, транспорт и связь. Вдвое больше в городе, чем в селе оно было занято практически во всех сферах общественного производства за исключением сельского и лесного хозяйства. Особенно большой разрыв наблюдается в сфере здравоохранения, здесь разница между числом занятых в городе и селе составляет более 7 раз. Города лучше обеспечены медицинским персоналом, в том числе за счет сосредоточенных здесь курортных и лечебных комплексов [5].
Анализ характера занятости населения Кубани и Ставрополья в конце 1930-х гг. позволяет говорить о том, что, несмотря на активные процессы индустриализации, население региона в большинстве по-прежнему было занято в сельском хозяйстве. В то же время Кубань имела более развитую промышленную базу, транспортную инфраструктуру и доля занятых в промышленном производстве и на транспорте здесь была выше, чем в Ставрополье.
С изменением общественной системы постепенно, но неуклонно изменялись способы материального обеспечения населения. В частности, такая характеристика как источник средств существования является одним из важных признаков, характеризующих социально-экономическую структуру населения. В программах Всесоюзных переписей населения как 1939 г., так и 1959 г. данные об источнике средств существования были получены на основании ответов на вопросы о занятии и о другом источнике средств существования (для лиц, не имеющих занятия).
При разработке материалов переписи населения 1959 г. по источнику средств существования были выделены следующие группы: имеющие занятия; члены семей; занятые в личном подсобном сельском хозяйстве; иждивенцы отдельных лиц; пенсионеры; стипендиаты, другие иждивенцы государственных и общественных организаций; лица, имеющие прочие источники средств существования; лица, не указавшие или неточно указавшие источник средств существования [6].
На протяжении 1930–1950-х гг. шел процесс вовлечения населения, особенно женщин, в сферу общественного производства, снижалась доля неработающего населения, в результате в составе самодеятельного населения видна тенденция его непрерывного увеличения.
Так, по данным переписей населения 1959 г. самодеятельное население по стране составило 59 %. Доля мужчин, имеющих занятия, во всем мужском населении РСФСР, согласно материалам переписи населения 1959 г., составляла около 55 %, то есть почти столько же, сколько в 1939 г. Заметно снизилась доля иждивенцев отдельных лиц среди мужчин (с 41,2 % в 1939 г. до 37,2 % в 1959 г.) и повысилась доля пенсионеров (с 1,2 до 5,9 %). Среди женщин возросла доля лиц, имеющих занятия, и пенсионеров, резко уменьшился удельный вес иждивенцев отдельных лиц и менее значительно – доля женщин, занятых в личном подсобном сельском хозяйстве (с 8,9 до 7,8 %) [7].
Неуклонно росла доля самодеятельного населения в Краснодарском и Ставропольском краях, которая здесь была существенно выше, чем в целом по России. На Кубани и Ставрополье доля самодеятельного населения, имевшего занятия в 1959 г. составляла свыше 70 % по отношению ко всему трудоспособному населению. Несколько меньше лиц, имевших занятия, было в национальных автономиях, и при этом здесь большая доля занятых в личном подсобном хозяйстве. Доля иждивенцев отдельны лиц как учащихся, так и не учащихся так же ниже была в автономных областях Адыгейской и Карачаево-Черкесской – 14,1 и 14,3 %. В Краснодарском и Ставропольском краях на долю этой категории лиц приходилось 15,5 и 16,6 % соответственно (таблица 2). Эти показатели были выше общероссийских, где на долю иждивенцев приходилось 12,7 % [8].
Таблица 2 - Распределение населения в трудоспособном возрасте по источникам средств существования в 1959 г., %
|
Административно-территориальные единицы |
Имеющие занятия |
Занятые в личном подсобном сельском хозяйстве |
Иждивенцы отдельных лиц |
Пенсионеры и стипендиаты |
|
|
учащиеся |
неучащиеся |
||||
|
Краснодарский край |
74,8 |
6,6 |
2,5 |
11,6 |
4,4 |
|
Адыгейская АО |
73,0 |
5,9 |
4,3 |
12,3 |
4,4 |
|
Ставропольский край |
72,8 |
7,8 |
2,5 |
11,8 |
5,0 |
|
Карачаево-Черкесская АО |
68,3 |
12,4 |
3,3 |
12,0 |
3,9 |
В то же время если в целом по стране удельный вес населения, занятого только в личном подсобном хозяйстве сократился, то на Кубани и Ставрополье он был несколько выше, что опять же объясняется аграрной спецификой региона.
Данные о численности и составе иждивенцев государственных, кооперативных и общественных организаций (стипендиатов, пенсионеров и т.д.) выступают показателем, характеризующим деятельность государства в области социальных мероприятий и социального обеспечения. Выросла доля пенсионеров, причем в Краснодарском и Ставропольском краях этот показатель был существенно выше союзного. В связи с дальнейшим развитием образования растет удельный вес учащихся-стипендиатов. Доля иждивенцев отдельных лиц в Краснодарском и Ставропольском краях по отношению ко всему населению была несколько выше, чем по РСФСР [9].
Распределение населения по источникам средств существования колеблется в зависимости от категорий поселений. Доля мужчин, имеющих занятие, пенсионеров и стипендиатов была выше в городах, а доля иждивенцев отдельных лиц и занятых в личном подсобном хозяйстве была выше в сельской местности. Среди женщин наблюдаются несколько иные тенденции распределения: доля женщин, имеющих занятия, выше в сельской местности; резко превалирует в ней занятые в личном подсобном сельском хозяйстве.
Таким образом, основной тенденцией в изменении социальной структуры и характера занятости населения рассматриваемых регионов на протяжении 20-летнего межпереписного периода был рост доли занятых в общественном производстве, сокращение иждивенцев, постепенное увеличение среди занятых доли женщин. В отраслевой структуре занятости постепенно сокращалась доля занятых в сельском хозяйстве, и, как следствие, доля крестьянства, и при этом росла часть рабочих и служащих.
Ссылки:
-
1. Рассчитано по: Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ). Ф. 1562. Оп. 336. Д. 274. Л. 21.
-
2. Рассчитано по: Итоги переписи населения 1939 г. Распределение населения Краснодарского края по отраслям народного хозяйства, по возрасту, грамотности, образованию, числу учащихся по отдельным национальностям. М., 1940; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 274. Л. 21.
-
3. Всесоюзная перепись населения 1939 г. Таблица Ф. 11. Возрастной состав населения // РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 607.
-
4. Итоги переписи населения 1939 г. …
-
5. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 274. Л. 21.
-
6. Статистика населения с основами демографии. М., 1999. С. 104.
-
7. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. РСФСР. М., 1963. С. 158–159.
-
8. Там же. С. 159–160; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 1568. Л. 136.
-
9. Гозулов А.И., Григорьянц М.Г. Народонаселение СССР. М., 1969. С. 120; Итоги Всесоюзной переписи … ; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 1568. Л. 136.