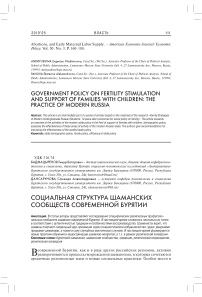Социальная структура шаманских сообществ современной Бурятии
Автор: Бадмацыренов Тимур Баторович, Дансарунова Санжида Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 5, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье авторы представляют исследование специфических религиозных профессиональных сообществ шаманов современной Бурятии. В настоящее время сложилось несколько их типов в соответствии с аутентичностью традиции и особенностями воспроизводства. Шаманисты верят, что шаманы получают сакральный дар-призвание через генеалогическое избранничество «удха» умершими предками-шаманами, а также в силу случайных мистических случаев. В настоящее время формируются новые практики обучения и индоктринации шаманов-неофитов, в т.ч. в рамках религиозной конверсии.
Бурятский шаманизм, шаманские сообщества, традиции, религиозное возрождение, религиозная конверсия
Короткий адрес: https://sciup.org/170171342
IDR: 170171342 | УДК: 316.74 | DOI: 10.31171/vlast.v27i5.6728
Текст научной статьи Социальная структура шаманских сообществ современной Бурятии
Всовременной Бурятии, как и в ряде других российских регионов, активно разворачиваются процессы возрождения шаманизма, в которых сочетаются архаичные религиозные идеи и новые социальные практики. Особое место в этих процессах занимают шаманские сообщества как специфические религиозные социально-профессиональные объединения-новации. Ими разрабатываются и транслируются идеи о необходимости сочетания аутентичности религиозной традиции и качественных изменений в системе традиционного шаманизма в условиях общественных трансформаций. Обостряется конкуренция между разными группами, обусловленная возрастающей дифференциацией верующих. Востребованность этническо-родоплеменных духовных традиций имеет большое значение в социокультурной жизни шаманистов Бурятии, хотя в общественном мнении фиксируется неоднозначное отношение к этому явле-нию1.
Понятие «религиозный ренессанс», или «религиозное возрождение» ( religion revival ) получило достаточно широкое хождение уже в последние десятилетия XX в. В России оно распространилось в связи с кардинальным изменением общественно-политической ситуации и выходом религий из «социального гетто» [Лебедев 2007: 24]. Подобное состояние испытывает и традиционный шаманизм бурят. Если историческим и этнографическим описаниям шаманизма посвящено большое число исследований, то факт пробела в социологическом его изучении объясняется тем, что «бурятский шаманизм, как и шаманизм других сибирских народов, в своем развитии не достиг организационного оформления в виде церкви. Церковь как социальный институт возможна лишь в условиях государственности или при поддержке правительства. Поскольку буряты не имели своей государственности, единой шаманистской организации не могло быть. Царское правительство с самого начала выступило против шаманизма как идолопоклонства и также за его искоренение» [Михайлов 1987: 93]. В свою очередь, политика царского правительства по отношению к ламаизму была связана с учетом обстановки на Дальнем Востоке и в Центральной Азии и имела целью поставить ламаизм себе на службу. Разрозненный шаманизм бурят и родовые шаманы находились, таким образом, в условиях двойного притеснения – царизмом и православием – и негласного давления ламаизма. Тем не менее существовало общебурятское сообщество, основанное на шаманских культах, соединяющих бурят-единоверцев в культовом и бытовом общении.
Социальные общности в различных формах представляют собой объединения людей с устойчивыми отношениями, объединенных совпадающими интересами и целями, сконцентрированные в качестве коллективных субъектов социальных действий. Сообщество – один из самых старых социальных институтов в истории развития человечества, берущее свое начало в первобытном человеческом стаде (праобщина) как в первоначально-условном человеческом коллективе. Слово «сообщество» как социологический термин применяется для отражения особых тесных и эмоционально окрашенных отношений внутри групп или общностей, формирующихся в границах более или менее конкретных территориальных локаций. До XVII в. это понятие прочно увязывалось с конкретным географическим местом рождения и проживания людей. В Новое время развитие скоростного транспорта, телекоммуникационных технологий и других усовершенствований сделали термин «сообщество» менее зависимым от географического положения. В значительно большей мере оно стало связываться с отношениями между людьми и их совместными интересами, регулируемыми нормами, традициями и обычаями социальных институтов, которые направлены на исполнение необходимых потребностей общества. Механизмами такого исполнения выступают 5 основных институтов. Это институты производства, семьи, религии, государства и образования. В свою очередь, они могут обладать сложной структурой, включающей связи между формализованными или неформализованными социальными практиками.
В современной Бурятии представлены специфические религиозные социально-профессиональные сообщества шаманов, характеризующиеся особой институциональной структурой, включающей социальные религиозные культовые и внекультовые практики. Эти специфические религиозные образования являются новацией в традиционном шаманизме, поскольку в противовес слабо структурированным связям между обособленными родовыми бурятскими шаманами сегодня действуют шаманские сообщества, ориентированные на воспроизводство как традиционного шаманизма, так и неошаманизма, как городского, так и интернационального шаманизма. Такая трансформация может быть признаком того, что, «изначально тесно связанная с родовыми практиками, сегодня шаманистская религия ориентирована на внеродовые и надэтнические группы, изменившиеся социальные условия, учитывает изменения социальной структуры населения, этнических, образовательных и иных характеристик мест обитания» [Бадмацыренов, Дансарунова 2017: 209].
Многие современные культовые служители шаманизма обладают светским образованием и широким кругозором, включающим научные знания. Они могут адаптировать духовные послания предков к современным реалиям и способствуют пониманию их в различных социальных слоях и общностях. Применение социально-профессионального подхода в исследовании шаманских сообществ позволяет раскрыть социальную сущность этих групп, их компетентность в конфессиональных и других вопросах, профессионализм в шаманских социальных практиках.
При этом в возрождении шаманизма проявляется «неплохая сохранность шаманства вместе с бытовым шаманством/шаманизмом среди представителей как старшего, так и среднего поколений. Фоновое знание о шаманизме не столько дает пищу для становления кандидатов в шаманы, сколько формирует готовность среды к принятию традиционной практики, что порой бывает важнее, чем наличие способных кандидатов в шаманы» [Харитонова 2006: 234]. Это подтверждает устойчивость сакральных догматов и преемственность шаманских качеств предков. «Ни один исследователь, понимающий особенности сакральных практик и знающий материалы Сибири и Севера за ХХ столетие, не сможет утверждать, что традиционный шаманизм как практика настоящих больших шаманов исчез везде полностью и окончательно. Однако во многих отдаленных глухих районах до начала “перестройки” практиковали настоящие шаманы». По вере шаманистов, сущность шаманов как инвариантность их шаманского качества и принадлежащих им атрибутов исходит «из шаманского избранничества – фундамента шаманства в наследственности “удха”, являющегося его универсалией, обеспечивающей функционирование института в пространственно-временном континууме путем передачи опыта от поколения к поколению» [Болхосоев 2016: 5].
Институт «избранничества», через который осуществляется передача наследия предшествующих родовых шаманов следующим поколениям, также обеспечивает воспроизводство современных шаманских сообществ. Наряду с этим, несмотря на выявление особенностей внекультовых и культовых практик шаманов и создания «современных» и «трансформированных» шаманских сообществ, нужно учитывать архаичные структуры, выполняющие особую функцию в их социокультурном устройстве.
Все религии – как институционализированные в церковных структурах, так и не имеющие церковного уклада – включают особую общность священнослу- жителей, хотя зачастую могут не иметь признаков формальной организации. Поэтому в общественной жизни, особенно на ранних этапах ее развития, одна из ведущих ролей принадлежит лицам религиозного «призвания», распространяющих сакральные знания. Можно согласиться, что «шаманская тема одна из наиболее популярных в зарубежных и отечественных научных трудах с середины прошлого века, но известна она стала значительно раньше. Интерес к необычным во многих отношениях личностям, возникший еще у первых путешественников и хронистов, со временем не только не уменьшался – он возрастал порой в геометрической прогрессии» [Харитонова, Свидерская, Мещерякова 2004: 128].
Шаманизм рождался в преклонении перед стихийными силами природы и почитании духов предков. Потребность в построении взаимодействия со священными объектами породила потребность в носителе особого религиозного статуса, который должен был взять на себя ответственность за установление связи с такими сверхъестественными надприродными силами и вступление с ними в диалог. С периода раннего родового строя происходит формирование сложной системы религиозных представлений и обрядов, предполагающей уже в то время существование отправителей обрядов. Их функции, права и действия, вероятно, были примитивными и существенно видоизменялись с течением времени. «Способностью воспринимать в себя духов обладают почти все люди, но остается еще категория людей, которые могут не только воспринимать в себя, но и подчинять себе духов, свободно распоряжаясь ими, и при помощи этих духов могут даже произвольно отпускать из своего тела свою собственную душу (дух). Это и есть шаманы. На подчинении духов человеку, собственно, и основано шаманство» [Широкогоров 1922: 60]. Следовательно, при изучении шаманских сообществ необходимо учитывать, что их представители воспроиз-водят/конструируют религиозную и символическую связь с традициями родового шаманизма. В традиционалистских сообществах транслируется идея о том, что в «исконном» шаманизме в воспроизводстве шаманов ничего не изменилось за сотни и даже тысячи лет. И, несмотря на изменения общества, адаптивные трансформации традиционных верований и практик к новым условиям не влияют, в представлениях верующих-шаманистов, на аутентичность идейных и практических основ шаманизма и избранничества предками новых потомственных шаманов. «Шаман – человек, получивший свой дар по наследству, могущий приходить по желанию в религиозный экстаз, во время которого он входит в общение с духами. Шаман – избранник духов, заключивший с ними договор о взаимной помощи; духи обязуются выполнять его ходатайства о нуждах людей; шаман в свою очередь обязуется приносить духам жертвы и снабжать их всем потребным. Шаман – посредник между людьми и божествами» [Петри 2014: 70-71].
В то же время он импровизирует, сочиняя заклинания, стихи-обращения к духам-божествам с указанием их местонахождения в небесной иерархии и того, чьими сыновьями они являются. Шаман никогда не изменял традиционные общие представления о мифических небожителях, обитателях нижнего мира, духах-хозяевах мест и т.д. «Приходится удивляться, как полудикие номадные племена и народы, не имеющие своей письменности, могли выработать и сохранить продукты религиозного мифотворчества, столь художественнопоэтически отшлифованные» [Дугаров 1991: 20]. Культовые служители отражают социокультурную сторону бытности в таинствах богослужений и системе религиозных культов, проявляющихся во внешних формах богослужений, а именно в солидирующих ритуалах и обрядах, поклонах, паломничествах по святым местам, в соблюдении традиций и т.д. М. Элиаде считает, что «шаманы являются избранными; и как таковые они причастны к сфере сакрального, недоступного остальным членам сообщества. Их экстатические переживания по-прежнему оказывают огромное влияние на стратификацию религиозной идеологии, на мифологию, комплекс ритуалов, которые предшествовали шаманизму, или перемены ему в том смысле, что являются плодом общего религиозного опыта, а не опыта определенного класса избранных-экстатиков» [Элиаде 2015: 18]. Никакая религия не является совершенно «новой», никакое религиозное послание не опровергает прошлого полностью; речь идет скорее о преобразовании, обновлении, переоценке, интерпретации элементов [Элиаде 2015: 21]. Л.Л. Абаева пишет, что шаманизм не без оснований можно считать самой ранней формой религиозных воззрений человечества, сохранившейся на некоторых территориях вплоть до наших дней и во многих случаях составившей конкуренцию мировым религиям. Но следует иметь в виду, что это «не относится ни к тюркским народам Сибири, ни тем более к монгольским народам в регионе их расселения» [Абаева 2014: 117].
«Шаману принадлежит важная роль врача, помощника людей во всех тех случаях, где необходимо воздействие на духов более сложным способом (не простое кормление духов жертвой), а так как таких случаев, где помощь шамана необходима, в жизни шаманистов бывает много, то шаман оказывается необходим вообще, и это вызывает у них стремление поддерживать шаманов, а иногда даже предоставлять некоторое материальное обеспечение им для большего облегчения возможностей вести сложную ответственную и опасную деятельность по умиротворению, направлению деятельности духов в желательную людям сторону» [Широкогоров 1922: 55].
На избранничество будущего неофита (адепта) влияет феномен наследственности шаманского удха , а именно шаманская генеалогия предков. Шаманская генеалогия избранничества в этносе принимается как регенерация переходящих сакральных сил удха родовых шаманов к предрешенно избранным грядущим потомственно-кровным шаманам. С точки зрения С.Б. Болхосоева, такая непрерывная преемственность опыта чрезвычайно важна. «Являясь фундаментом шаманства, шаманское избранничество определяет все многообразие его проявлений и играет главную роль в приобщении современных адептов к ритуальной практике бурятского шаманства» [Болхосоев 2016: 5]. Однако воспроизводство шаманов может быть не преднамеренным, не избранническим вхождением нового шамана в социум, а по воле случая: как небесное происхождение ( нэрьер удха ), когда, например, потомок убитого молнией объявлялся шаманом. Возможен буудал удха как находка ниспосланных с неба предметов, наличие родового клейма на теле: шаман рода по этим меткам должен отслеживать перерождение усопшего. «Известие по обнаружении клейма у новорожденного-перерожденца объявлялось по роду» [Зомонов, Зомонов 2013: 52].
Для монголо-бурятских шаманов «белый шаман» и «черный шаман» по-монгольски и по-бурятски звучат как сагаани боо и харайн боо . В первом случае имеется в виду шаман, обслуживающий «белых» или имеющий дело с «белокостными», благородными, высокостоящими, каковыми могли быть только господа-нойоны, а во втором случае – шаман, имеющий дело с «чернокостными», простыми смертными людьми [Михайлов 1980: 268]. Относительно белого и черного шаманства и их культовых служителей и по сей день имеются противоречивые и спорные мнения как среди ученых, так и среди высокопосвя-щенных шаманов. К примеру, известный шаман современности Б.Д. Базаров заявлял, что он «как потомственный носитель удха шаманов-кузнецов, категорически не согласен с утверждением, что шаманы делятся на “черных” и
“белых”. Деления на такие сообщества и категории никогда не было» [Базаров 2009: 14].
Статья выполнена при финансовой поддержке гранта Бурятского государственного университета № 19-03-0502.
Список литературы Социальная структура шаманских сообществ современной Бурятии
- Абаева Л.Л. 2014. Семантика круга и традиционное мировоззрение народов Центральной Азии в контексте буддийской религиозной культуры. - Вестник Бурятского государственного университета. № 14(1). С. 114-119
- Бадмацыренов Т.Б., Дансарунова С.А. 2017. "Городской" шаманизм в современном Улан-Удэ. Улан-Удэ - Варшава: два города, два мира, общие проблемы и научно-исследовательские вызовы: монография. Варшава: Изд-во Варшавского университета. С. 209-227
- Базаров Б.Д. 2009. Таинства и практика шаманизма. Кн. 3. Человек во времени и пространстве. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета. 208 с
- Болхосоев С.Б. 2016: Избранничество: феномен шаманской наследственности удха у предбайкальских бурят. Улан-Удэ: ИПК ВСГИК. 247 с
- Дугаров Д.С. 1991. Исторические корни белого шаманства на материале обрядового фольклора бурят. М.: Наука. 300 с