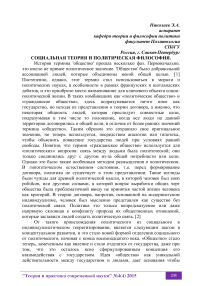Социальная теория и политическая философия
Автор: Николаев Э.А.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 4 (4), 2015 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140266527
IDR: 140266527
Текст статьи Социальная теория и политическая философия
Николаев Э.А. аспирант кафедра теории и философии политики факультет Политологии СПбГУ
Россия, г. Санкт-Петербург
СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.
История термина 'общество' прошла несколько фаз. Первоначально, это имело не прямое политическое значение. 'Общество' было добровольной ассоциацией людей, которые объединены некой общей целью. [1] Постепенно, однако, этот термин стал использоваться в морали и политических науках, в особенности в рамках французских и шотландских дебатов, и это приобрело место наименование для ключевого объекта социополитической жизни. В таких комбинациях как «политическое общество» и «гражданское общество», здесь подразумевается ничто иное как государство, но исходя из представления о теории договора, а именно, что некоторая общность людей, которая приследует совместные цели, подразумевая в том числе то положение, когда все люди на данной территории договорились о общей цели, в отличие от более ранних значений термина «общество». Таким образом это сохранило свое оригинальное значение, но теперь используется, посредством аналогии или гипотезы, чтобы объяснить появление государства людей при условиях равной свободы. Понятно, что термин «гражданское общество» используется для «политических» вопросов: связь между людьми была политической; они только соединились друг с другом из-за общей потребности или цели. Однако это было также особенным методом размышления о политическом. В гипотетическом естественном состоянии, т.е. перед формирование договора, политика не существует в этом представлении. Такие взгляды были чужды для древней политической мысли, в которой человек был zoon politikon, или другими словами, в которой вопрос выработки общих черт общества была проблематичной ввиду не принятия частой жизни человека как критерий. В теории договора, напротив, основанной на модернистском индивидуализме, человек был мысленно представлен как существо без политической связи. Политика это только непредсказуемое или даже напрямую склонная к конфликту природа их общественных отношений, которые заставили людей создать политическую связь. [2]
От такого происхождения политического из социального в индивидуалистическом теоретизировании, является следующим шагом в концептуальном развитии, и это стало новой формой отделения социального от политического, начиная с конца восемнадцатого века. «Общество» стало теперь, замеченным как явление и стало отделятся от государства, даже при том, что это осталось ясно сформулированным концепция его взаимодействия с государством. Идея «общества» как уникальной действительности между государством и людьми, дает основания чтобы предположить, что были социальные связи между людьми, которые отличались от их политических связей. В большинстве версий девятнадцатого века социальная теория, характеризовалась как расширенная социальная связь осмысленная таким способом, которым она могла вобрать в себя политическую связь (Вагнер 2001). [3] Таким образом социальное использовалось, чтобы решить проблему политического, это стало большой проблемой, при условиях наличия свободы личности. Идея о том, что существует некое «социальное основание», которое обязательно лежит в основе любого жизнеспособного государства, например, используется, чтобы проанализировать отношение между европейскими демократическими этническими государствами и появляющимся европейским единым государством. [4] Правда, в некоторых версиях, наиболее заметна марксистская теория, для которой характерно наличия напряженности между структурой социальной связи и структурой политической связи что и обеспечивает движущуюся силу для социальных изменений. Такие взгляды, тем не менее, вместо обеспечения альтернативы, просто инвертирует идею, что требуется определенная структура социальных связей для поддержания государства. Социальная связь была концептуально отделена от политической только для того, чтобы быть повторно быть связанной с ней в следующем концептуальном развитии разделение было необходимо, прежде всего, для подкрепления индивидуалистической концепции свободы; новое сопряжение было необходимо, чтобы подчинить свободу некоторой предсказуемости. [5] Таким образом даже учитывая полную автономию, рассуждение общественных наук идет к тому, что люди представлялись бы ведомыми ограниченным числом понятных склонности. И эта связь свободы и предсказуемости стала особенно важной в исторический момент, когда внешне наложенные барьеры несли угрозу навсегда исчезнуть, это был момент американских и французских революций. Эти революции дали установленное выражение политическому аспекту более широкой культуры отдельной автономии, которая является основным элементом современности. В этом смысле большая часть этой эры может быть рассмотренна как освобождение людей от наложенных связей, но это освобождение было далеким от отсутствия внутренних противоречий. Как когда-то описал эту особенность современности Клод Лефорт: «Когда человек определяется как независимый, человек не меняется... одна уверенность против другой....Новый способ существования человека в пределах горизонтов демократии просто не появляется в качестве обещания управлять собственной судьбой, но также и не меньше как лишение права собственности гарантии относительно идентичности – гарантии, которая однажды появившись, гарантирует человеку позицию обеспеченным местом, социально-бытовым условием, или возможностью присоединяясь к законной власти». [6] Освобождение здесь интерпретируется как увеличение непредвиденных обстоятельств и неуверенность в правильной жизни людей.
Если бы это представление было недвусмысленным в действительности, то нужно было бы предвидеть философию непредвиденного обстоятельства, как например это делал Ричард Рорти или Станислав Лем. [7;8] Например связь с либерально-индивидуалистической политической теорией доминирующей над интеллектуальной сценой на протяжении всего времени после успешных революций. [9] Однако исторически это нисколько не имело место. Напротив, «исторический момент, о котором мы говорим, появляется таким способом, которым реальное повышение политического случая влечет за собой свое теоретическое уменьшение». [10] Вместо этого исторический момент свободы совпал с повышением влияния социальных теория. «Общество» как объект общественных наук было «постреволюционным открытием» или выражаясь еще более кратко, «социологическая точка зрения проявляет себя в момент, когда понятие свободы становится основной артикуляцией человеческого мира».[11] Такие очевидные парадоксы раскрывают aporia политической мысли после освобождения. Невозможность больше ссылаться на внешне определенные несомненные факты, заставило социополитических мыслителей начать искать регулярность и непрерывность, которая существует без будучи управляемой, или даже вообще созданной условностью. Социальная теория была средством уменьшения непредвиденных обстоятельств. Можно понять такие интеллектуальные изменения посредством взгляда на глубокий шок от революций повлиявший на социальную и политическую мысль. В первом шаге, несколько схематично описанный, опыт потребовал замену республиканского понятия свобода на либеральную вариацию. В происхождении государства Гоббса-Локка, либералы определяют свободу как невмешательство. Государство, основанное на договоре, господствует над людьми, но этим вмешивается в их привилегии только до той степени, требуемой для поддержания в силе данного договора. Либеральная традиция должна провести сильную границу между общественностью и частным; безотносительно социальных связей существующих на данный момент. Так как невмешательство общественности в частное — высший принцип, у этих взглядов может только быть крайне хрупкое, неустойчивое понятие членства в государстве. В договоре республиканцы определяют свободу как недоминирование. Недоминирование осмысляется в иной степени, нежели чем невмешательство; это требует безопасности против вмешательства. Такая безопасность происходит, от пути, согласно которому граждане соприкасаются друг с другом, другими словами: от их социальных связей, таким образом, что существует менее строгое разделение между частным и общественностью и более широким понятием членство, чем в либерализме. [12]
Среди историков политической мысли сегодня, это понимается достаточно широко - возможно даже слишком широко, что это не пространство для дальнейшего обсуждения - соглашение, что республиканизм был в общем и целом поворотным моментом восемнадцатого века и либерализма, очень скоро появился в качестве основной политической теории в постреволюционных государствах.
Список литературы Социальная теория и политическая философия
- Heilbron, J. The Rise of Social Theory, Cambridge: Polity. 1995. c.87
- Hallberg, P. and Wittrock, B. ‘From koinonı´a politike´ to societas civilis’,in P. Wagner (ed.) The Languages of Civil Society, Oxford. 2006
- Wagner, P. ‘The political form of Europe: Europe as a political form’, in Thesis Eleven, no. 80, February, 2005. c. 47-73.
- Offe, C. ‘Demokratie und Wohlfahrtsstaat’, in W. Streeck (ed.) Internationale Wirtschaft, nationale Demokratie, Frankfurt/M: Campus. 1999. c. 99-136.
- Latour, B., We have never be modern, London: Harvester Wheatsheaf. 1993.
- Lefort, C. Democracy and political theory, Cambridge: Polity. 1988. c. 214-215
- Рорти Р., Случайность, ирония, солидарность. Русское феноменологическое общество. Москва. 1996
- Лем С., Философия случая. АСТ. Москва. 2006
- Gander, E. The Last Conceptual Revolution: A critique of Richard Rorty’s political philosophy, Albany:SUNY Press. 1999
- Manent, P., The city of man. Princeton University Press. Princeton 1998. c.123
- Там же. с.115-117
- Pettit, P. Republicanism: A theory of freedom and government, Oxford: Clarendon. 1997