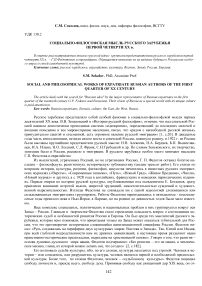Социально-философская мысль русского зарубежья первой четверти ХХ в
Автор: Соколов С.М.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 1 (32), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются поиски «русской идеи» крупными представителями русского зарубежья первой четверти ХХ в. - Г.П.Федотовым и евразийцами. Обращается внимание на их видение будущего России как особого мира со своей самобытной культурой.
Русское зарубежье, евразийство, культура, восток, запад, Россия, евразия
Короткий адрес: https://sciup.org/142142268
IDR: 142142268 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Социально-философская мысль русского зарубежья первой четверти ХХ в
Русское зарубежье представляло собой особый феномен в социально-философской мысли первых десятилетий ХХ века. В.В. Зеньковский в «Истории русской философии», отмечая, что над советской Россией нависла деспотически проводимая система «идеократии», определяющей до последних мелочей и внешнее поведение и все мировоззрение населения, писал, что «рядом с несвободной русской жизнью, принудительно сжатой и стесненной, есть огромное явление русской эмиграции» [1, с.20]. В двадцатые годы часть интеллигенции, не видя своего места в советской России, покинула родину, в 1922 г. из России были высланы крупнейшие представители русской мысли: Н.Н. Алексеев, Н.А. Бердяев, Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, С.Л. Франк, С.Н.Трубецкой и др. По словам Зеньковского, их творчество, затихшее было в России, расцвело в эмиграции. В русском зарубежье особое место занимает наследие Г.П. Федотова и евразийство.
Из мыслителей, утраченных Россией, но не утративших Россию, Г. П. Федотов оставил богатое наследие – философскую, религиозную, историческую публицистику (свыше трехсот работ). Его статьи по вопросам истории, культуры, религии, философии, искусства печатались в известных русских эмигрантских журналах («Версты», «Современные записки», «Путь», «Новый Град», «Живое Предание», «Числа», «Новый журнал» и других), а с 1928 года в английских, французских и немецких периодических изданиях. Первые очерки по истории русской культуры, опубликованные под псевдонимом Е. Богданов, сразу привлекли внимание остротой мысли, широтой эрудицией, самостоятельностью суждений и художественной выразительностью. Взгляды Федотова не совпадали ни с одной идеологией сложившихся или складывавшихся эмигрантских группировок. Работы Федотова переиздавались в пятидесятые - восьмидесятые годы прошлого века в Нью-Йорке, в Париже, но на родине до девяностых годов были мало известны.
Весь комплекс социальных, политических и национальных проблем в них группируется вокруг оси Запад – Россия. Главным в творчестве Федотова стало стремление осмыслить вопрос о соотношении исторических судеб и особенностей развития России и Европы. Он был среди тех мыслителей русского зарубежья, которые ясно понимали, что ориентация только на Запад может оказаться губительной для России, что это противоречит исторически сложившейся цивилизационной специфике России. Федотов писал: «Русь создавалась на периферии двух культурных миров: Востока и Запада». Так, Китай или Индия, при всей глубокой несродственности нам их древних цивилизаций, в настоящее время разделяют наши нравственно-исторические предпосылки, выросшие на христианской основе». Говоря о том, что религия – основа душевно-духовного мира нации, Федотов подчеркивал: «Без религии – это не нация, а человеческое месиво, глина, из которой можно лепить все, что угодно» [2, с.182].
Его волновала судьба культуры, ибо, по его словам, культура находится под угрозой. Человек в истории – или созидатель, или разрушитель культуры, человек является первой и необходимой предпосылкой культуры. Более того, по словам Федотова, человек – «судьбоносец культуры». Федотов защищал свободу личности и, прежде всего, свободу духа. Принимая свободу как священный дар XIX века, он от- казывается от буржуазного ее понимания в XX веке. Будущее России, по его мнению, «зависит от того, к какому стану мы примыкаем: к стану цивилизации или культуры». Он считал, что «проблема культуры, в отличие от цивилизации, имеет два аспекта, допускающих оба сознательное, воспитательное и общественное усилие. Культура отличается от цивилизации, во-первых, иной направленностью интересов, во-вторых, приматом качества над количеством», культура «построена на примате философско-эстетических, а цивилизация - научно-технических элементов» [3, с.183].
По образному выражению Федотова, культура - «это сгустки накопленных ценностей», «та кожа, которая сдерживает в человеке зверя». Одним из способов «сдирания» культурного слоя стало быстрое приобщение масс к цивилизации в ее поверхностных слоях: технике, науке. Он с тревогой писал о том, что новая нарождающаяся интеллигенция проникается пафосом американизма. Федотов писал: «Россия действительно догонит и обгонит Америку. Ее догнать нетрудно. Не сомневаемся, что «Новая Америка» сможет многое организовать и лучше старой. Но что же в ней будет от России? Почему этот евразийский континент стоит нашей любви более, чем все другие, превращающиеся на наших глазах в унылое единообразие планеты? Мы никогда не примиримся с таким будущим России. В своем великом прошлом она дала миру иные поруки. В пору материалистического усыпления Запада, совсем недавно, она горела костром изумительной духовности. Она была «звана Христовой». Она была в числе великих наций - Греция, Франция, Германия, - которым попеременно принадлежала духовная гегемония человечества. Вознесшаяся так высоко, она так низко пала. Может быть, сейчас она утратила свои права на первородство. Ей предстоит долгий и трудный путь искупления. Но отказаться совсем от своего лица, от своего мучительного борения с Богом - ради культуры танков и двуспальных кроватей - никогда!» [4, с.210]. Понятны его обвинения Запада в том, что он привил доктрины: бюрократического и классового (прусского или английского) консерватизма, буржуазного либерализма и революционного социализма, которые, по его словам, действовали разлагающе на народную жизнь и углубляли пропасть между политическим сознанием народа и интеллигенции.
Главное условие духовного и национального возрождения России он видел в создании политической свободы и в освоении духовного, культурного наследия России при одновременном сохранении ев -ропейского измерения ее духовности. «Бог не обидел Россию, - подчеркивал Федотов, - Только бы нам оказаться достойными этого наследства» (5, с.284). На одно из первых мест он ставил необходимость пробуждения национального самосознания народа, которое должны стимулировать и государство, и церковь. В работе «Будет ли существовать Россия?» подчеркивается, что сознание интеллигенции должно быть «одновременно великорусским, русским и российским». «Многонациональность, многозвучность России не умаляла, но повышала ее славу», «Россия не может равняться с Францией или Германией: у нее особое призвание. Россия - не нация, но целый мир. Не разрешив своего призвания, сверхнационального, материкового, она погибнет как Россия» [6, с.174]. Еще одним пророчеством Федотова стало предвидение того, что Европа готовится к мировой империи и стоит на пороге мировой империи. В этой ситуации возрастает роль России как третьего культурного материка между Европой и Азией со своей собственной исторической судьбой. Его призыв: «Худо мерить Европу на русский аршин, еще хуже мерить Россию на аршин Европы. Думается, что из смешения этих мерок оценки возникают все наши внутренние недоразумения» был услышан в России [7, с.6].
Федотов стремился преодолеть крайности как антропоцентристского, так и теоцентристского истолкования культуры и пытался показать, что эсхатологическая традиция христианства, утверждающая невозможность в рамках земного бытия достижения совершенства и полного воплощения идеала, вполне совместима с признанием непреходящей значимости культурного и социального творчества. Он исходил из традиционного христианского понимания истории как трагической мистерии, единственным и главным героем которой является человек - свободный, но не оставленный Богом и искушаемый злом .
Историософская концепция Федотова представляла собой попытку оптимально жизненного понимания эсхатологии. В ней выделяется несколько типов идеи «конца». Для Федотова несомненно, что «Благая весть» Евангелия была вестью о конце этого мира и о пришествии Царства Божия. Но он был убежден, что это пророчество в ХХ веке не может быть простым повторением первохристианского. Нельзя согласиться, что языческий или христианский, грешный или святой мир обречен на уничтожение. С точки зрения исторического опыта христианства Царство Божие есть дело богочеловеческое. Евангелия не дают ответа о времени конца света, поэтому столь частые хронологические спекуляции о конце мира, по его мнению, сомнительны и даже вредны, так как они подрывают энергию социальной жизни. Эсхатология Федотова предполагает высшую степень социальной дисциплины и ответственности, требует всегда быть на своем посту, где бы этот пост ни был. Он сформулировал максиму личной жизни и максиму культурной деятельности: «Живи так, как если бы ты должен был умереть сегодня, и одновременно так, как если бы ты был бессмертен; работай так, как будто история никогда не кончится, и в то же время так, как если бы она кончилась сегодня» [8, с.100].
Самобытным ярким направлением в русском зарубежье стало евразийство, которое обосновывало еще один оригинальный подход к пониманию места России в мировой истории. Евразийство, объединившее в себе философию, историю, культурологию, географию, экономику, психологию и другие области знания, явилось новым и в то же время достаточно традиционным для России течением мысли. Наиболее известными евразийцами были: лингвист, филолог и культуролог кн. Н.С. Трубецкой; географ, экономист и геополитик П.Н. Савицкий; философ Л.П. Карсавин; религиозные философы и публицисты Г.В. Фло-ровский, В.Н. Ильин; историк Г.В. Вернадский; музыковед и искусствовед П.П. Сувчинский; правовед Н.Н. Алексеев; экономист Я.Д. Садовский; критики и литературоведы А.В. Кожевников (Кожев), Д.П. Святополк-Мирский; востоковед В.П. Никитин; писатель В.Н. Иванов. Многих из них не устраивала узость устоявшегося многовекового стереотипа понимания «идеи России» прежде всего как духовной, преимущественно овеянной православными и панславистскими мотивами.
Евразийство стало одним из популярных движений в эмиграции. Эта популярность и значительность были связаны с верой евразийцев в то, что с помощью «истинной идеологии» Россия с ее самобытной историей и культурой станет великой державой. В своих трудах они не раз подчеркивали, что основу евразийского мировоззрения составляло представление о том, что европейская цивилизация чужда России, так как Россия ни Европа, ни Азия, а особый мир. Один из первых исследователей этого движения С. Ключников отмечал: «Интересно, что евразийство реализовало провозглашенную в своем названии программную установку даже самим характером собственной географии, распространившись в целом ряде стран и европейского, и азиатского континента. Оно имело несколько наиболее крупных центров в Софии, Праге, Берлине, Белграде, Брюсселе, Харбине и Париже, активно и с успехом занимавшихся издательской и лекционной деятельностью. Помимо распространения в славяноязычной и романо-германской среде евразийские идеи проникали и в англоязычный мир - в Англию (благодаря деятельности жившего там Д.П. Святополка-Мирского) и в США (после переезда туда Г.В. Вернадского и Н.Н. Алексеева)» [9, с.20].
Длительное время выходили из печати периодические издания: «Евразийский сборник», «Евразийская хроника», «Евразийский временник», газета «Евразия». Евразийцы оставили большое литературное наследие, которое стало широко доступным только во второй половине ХХ в . Сами евразийцы в своих работах указывали, что в целом ряде идей они являются продолжателями мощной традиции русского философского и историософского мышления. Для современников евразийства непривычным явились основные положения их учения, изложенные в работе «Исход к Востоку» (1921), вызвавшей серию откликов и полемику. Прежде всего, они были связаны со сформулированными в предисловии такими утверждениями, как, например: «Мы не сомневаемся, что смена западноевропейскому миру придет с Востока», «Русские люди и люди народов «Российского мира» не суть ни европейцы, ни азиаты. Сливаясь с родною и окружающей нас стихией культуры и жизни, мы не стыдимся признать себя - евразийцами». Актуальность проблемы «Россия-Евразия» была связана и с тем, что за рубежом русская эмиграция могла увидеть Запад без прикрас. Это явилось решающим фактором того, что западничество потеряло свою привлекательность для интеллектуальной элиты русского зарубежья. Евразийское учение стало в определенной степени и реакцией на разочарование Западом.
Евразийство стало оригинальной концепцией, имеющей свои философские корни и свою идеологию. Основополагающими идеями евразийства были: идея о России как Евразии - особом этнографическом мире со своей самобытной культурой; идея об особом месте России-Евразии в мировой истории и особых путях ее развития; идея культуры как симфонической личности; идея распространения Церкви, Православия.
Для евразийства особенно важной стала разработка религиозно-богословских проблем . Вопрос о соотношении религии и культуры, в свое время поставленный К. Леонтьевым, получил свое решение, причем «силе Религии», религии как социальному институту придавалось особое значение. Они выделяли идеи о «бытовом исповедничестве», о еще большей терпимости, чем прежде, к иным религиям, о «потенциальном православии». Важным положением евразийской доктрины стало положение о том, что православие должно стать еще ближе к жизни и быту народов. Идея «бытового исповедничества» осознавалась как одно из главных средств борьбы с атеизмом. Карсавин, Трубецкой, Савицкий, Алексеев не раз подчеркивали, что XX век - это эпоха «новой веры», единой для всех народов Евразии, что послереволюционное «отпадение от Бога» - явление временное. Одним из их «предчувствий» было предчувствие о том, что следование духу и букве православной церкви - залог процветания России как особой цивилизованной общности. Церковь для них, по словам Савицкого, «есть тот светильник, который им светит».
В работах евразийцев не раз подчеркивалось, что православие - это нечто большее, чем просто вероисповедание. «Оно, - писал Флоровский, - есть целостный жизненный идеал, сложная совокупность оценок и целей» [10, с.50]. Одной из идей евразийского учения стала идея о «родстве душ» народностей Евразии, о возможном религиозном единстве. Основанием для этого являлось «бытовое исповедничест-во» и особенная интенсивность религиозного чувства. Это, по мнению евразийцев, было присуще культуре допетровской России. Человек той эпохи переживал религию интенсивно, сверяя свои действия и поступки с религиозными заповедями, и относился к ним как к главным жизненным принципам и основам бытия.
Евразийцы были убеждены, что развитие России зависит от создания евразийской цивилизации. Одной из основных идей социальной философии евразийцев стала идея о том, что любое общество способно развиваться только на особенной, самобытной основе. Продолжая традицию поисков культурноисторического своеобразия России в русле противополагания России и Европы, заложенную славянофилами, судьбу России они связывали с осознанием истоков национальной самобытности и, как и славянофилы, подчеркивали, что нельзя считать Россию «отсталой частью Европы» или «развивающейся частью Азии». Она особая категория, особое «месторазвитие». Но если славянофилы, развивая идею гегелевской философии об исторических и неисторических народах, идеализировали славянскую, русскую старину, то лидеры евразийства своеобразие русского типа цивилизации связывали, прежде всего, с ее восточными корнями. В трудах крупнейших евразийцев свое решение получила проблема Россия - Восток. Символичным стало название программного труда евразийцев «Исход к Востоку». Оно, кроме традиционного для христианской культуры значения, воспринималось как намерение жить, не отрываясь от своих восточных корней, означало особую предначертанность исторического пути России и ее особую миссию. В «Исходе к Востоку» много внимания уделялось обоснованию восточных корней российской культуры, государственности, по-новому была рассмотрена роль татаро-монгольского ига.
Определяющим в евразийском учении стало понимание России - «русского сфинкса» как особой исторической формации, уникальность которой связана с восточными корнями. По сравнению со своими идейными предшественниками они расширили парадигму восприятия и роли Востока. Византийский «слой» Трубецкой, Савицкий, Флоровский и др. рассматривали как особый элемент, напоминая, что византийская культура сохраняла «евразийское» наследие предшествующей культуры. По-новому оценивая монголо-татарский период в российской истории, лидеры евразийства обосновывали закономерность «азийского», «туранского» элемента в русской государственности, культуре, быте. Они утверждали, что Россия-Евразия - отдельный культурно-исторический тип, и расширили рамки славянского культурноисторического типа. Исходя из своего взгляда на этническую историю России-Евразии, они включили в него не только русский народ, но и все народы, живущие на ее территории. Основу евразийского мировоззрения определило представление о России как православно-мусульманско-буддистской стране. В осмыслении судеб России вовлекался почти весь спектр гуманитарного знания - история, этнография, геополитика, экономика, лингвистика и т.д. Сильной стороной является создание геополитической доктрины, геополитики как мировоззрения. В основе этого мировоззрения лежал тезис о том, что Россия - ни Восток, ни Запад, ни Европа, ни Азия, но Евразия, что этой формулой должна определяться культурноисторическая сущность России, ее идентичность, пути и перспективы развития. Лидеры евразийства много писали о духовной близости России к Азии. Их привлекала главная ценность восточной культуры - ее особая духовность, связанная с отношением к религии. Наиболее известной и значительной в этом плане явилась работа Трубецкого «О туранском элементе в русской культуре». В ней на основе анализа языка, музыки, устной поэзии, обычного права и религии им выделены общие черты «туранского психологического типа». Его социальная и культурно-историческая ценность связывается с тем , что, по словам Трубецкого, типичный представитель туранской психики «характеризуется душевной ясностью и спокойствием». Они определяют отсутствие «разлада между мыслию и внешней действительностью, между догматом и бытом» [11, с.40]. Рассматривая роль туранских этнопсихологических черт в русском национальном облике, он указывал, что в общем эта роль была положительной. После выхода этой работы евразийство стало восприниматься как попытка обосновать «азиатский» облик России и связанную с этим ее уникальность.
Одной из идей Савицкого, Трубецкого, Вернадского и некоторых других участников движения стала идея о том, что монголы положили начало единству Евразии и заложили основы ее государственности и политического строя. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока позволил Трубецкому дать свой ответ на знаменитый вопрос древнего летописца «Откуда есть пошла Русская земля и как Русская земля стала есть?». Этот ответ связан с его глубоким убеждением в том, что в исторической перспективе Россия - преемница «великого наследия Чингисхана», что Киевская Русь, традиционно считавшаяся ко- лыбелью русского государства, цивилизационно, геополитически была лишь разновидностью провинции Византии.
В работе «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока» Трубецкой подчеркивал, что в империи Чингисхана евразийский культурный мир впервые предстал как целое. По словам Савицкого, без татарщины не было бы России. Он писал: «Велико счастье Руси, что в момент, когда в силу внутреннего разложения она должна была пасть, она досталась татарам, а не кому другому. Татаре - «нейтральная» культурная среда, принимавшая «всяческих богов» и терпевшая «любые культуры», пала на Русь, как наказание Божие, но не замутила чистоты национального творчества. Если бы ее взял Запад, он вынул бы из нее душу» [12, с.67]. По убеждению лидеров евразийства, «татаре» не изменили духовного существа России; но в отличительном для них в эту эпоху качестве создателей государств, милитарно-организующейся силы, они, несомненно, повлияли на Русь. За свой взгляд на этот драматичный период русской истории евразийцы получили даже прозвище «чингизханчики».
Евразийство развивало идеи К. Леонтьева о том, что в создании культурного типа главное значение приобретает государство, объединяющее этносы, нации, что Россия способна к культурно-историческому творчеству - созданию самобытной цивилизации. Они считали, что одинаковая для всех народов культура невозможна и предостерегали от ложного понимания цивилизации как европейской культуры. Трубецкой, вслед за Данилевским и Леонтьевым, предлагал отказаться от понятия «общего прогресса человечества». Только в истории отдельной культуры можно наблюдать настоящий прогресс: «Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие».
Евразийцы, как и Федотов, считали, что европейская культура эгоцентрична и космополитична. Капитализм привнес в нее материализм и вещепоклонство. На развитие европейской культуры большое влияние оказала католическая церковь с ее внешней обрядностью. В отличие от нее для России-Евразии не свойственны такие начала. Евразийская культура тяготеет к целостности восприятия, духовности выражения. Трубецкой предостерегал от европейского понимания цивилизации как культуры романогерманских народов: «Одураченные романогерманцами «интеллигенты» нероманогерманских народов должны понять свою ошибку. Они должны понять, что та культура, которую им поднесли под видом общечеловеческой цивилизации, на самом деле есть культура лишь определенной этнической группы романских и германских народов» [13, с.55].
Само положение эмигрантов давало возможность объективно оценивать «вечную» антитезу Россия - Запад. Как писал Федотов: «Русская эмиграция судьбой и страданием своим поставлена на головокружительную высоту. С той горы, к которой прибило наш ковчег, нам открылись грандиозные перспективы: воистину «все царства мира и слава их» - вернее их позор. В мировой борьбе капитализма и коммунизма мы одни можем видеть оба склона - в Европу и в Россию: действительность как она есть, без румян и прикрас. Кажется, будто мы и призваны быть беспристрастными свидетелями на суде истории» [16, с.3]. За рубежом русская эмиграция могла увидеть Запад без прикрас. Это явилось решающим фактором того, что западничество потеряло свою привлекательность для интеллектуальной элиты русского зарубежья . Представителей этой элиты Федотова и евразийцев объединяла идея об отличии России-Евразии от Запада и ее стратегические интересы должны быть ориентированы антизападно. Осмысление их поисков «русской идеи» на утратило актуальности и в настоящее время.