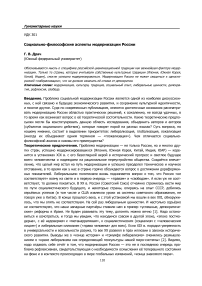Социально-философские аспекты модернизации России
Автор: Драч Геннадий Владимирович
Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 2-2 (63) т.12, 2012 года.
Бесплатный доступ
Обосновывается мысль о специфике российской цивилизационной традиции как важнейшем факторе модернизации. Только те страны, которые учитывали собственные культурные традиции (Япония, Южная Корея, Китай, Индия), смогли успешно модернизироваться. Модернизация России не может сводиться к односторонней «либерализации», что не должно означать её отказа от демократии.
Модернизация, культура, традиция, социальный опыт, либеральные ценности, демократия, рефлексия, свобода
Короткий адрес: https://sciup.org/14249805
IDR: 14249805 | УДК: 301
Текст научной статьи Социально-философские аспекты модернизации России
Введение. Проблема социальной модернизации России является одной из наиболее дискуссионных, с ней связано и будущее экономического развития, и сохранение культурной идентичности, и многое другое. Судя по современным публикациям, имеются достаточные основания рассматривать модернизацию России областью практических решений, к сожалению, не всегда удачных, в то время как возникает вопрос о её теоретической состоятельности. Какие теоретические предпосылки могли бы конституировать данную область исследования, объединить авторов и акторов (субъектов социального действия), которые говорят порой на разных языках? Суть вопроса, по нашему мнению, состоит в выделении приоритетов: либерализация, глобализация, локализация (иногда их объединяют одним термином — «глокализация»). Чем отличается социальнофилософский анализ и каковы его преимущества?
Теоретические предпочтения. Проблема модернизации — не только России, но и многих других стран, успешно модернизировавшихся (Япония, Южная Корея, Китай, Индия, ЮАР) — коренится в установках XIX в. с его безоглядной верой в исторический прогресс и светлое будущее всего человечества и надеждами на рациональное переустройство общества. Создаётся впечатление, что целый мир встал на путь модернизации и успешно преодолел техническое и научное отставание, в то время как у нас в стране горячо обсуждается вопрос о достижении дореформенных показателей. Либеральными политиками вновь поднимается вопрос о том, что Россия «не соответствует» всему на свете и в первую очередь — «правам» и «свободам». А если уж не соответствует, то должна покаяться. В XX в. Россия (Советский Союз) отчаянно стремилась вести мир по пути социалистического будущего, и некоторые страны, опираясь на опыт СССР, добились серьёзных успехов (в том числе и США извлекли уроки из системы советского образования, не говоря уже о Китае). В конце прошлого века, и с этой установкой мы вошли в век XXI, обнаружилось, что мы опять не соответствуем. На сей раз либеральным ценностям. И настолько серьёзно не соответствуем, что наши западные партнёры ставили нам в пример «успешные, демократические» реформы в Ираке. Не будем развивать эту тему, догонять можно вечно [1]. Надо остановиться и осмотреться, и тогда мы увидим, что находимся совсем в другой эпохе, «эпохе постмодерна», с её недоверием к «метанарративам», к социалистическим (социализм с «человеческим лицом») и либеральным иллюзиям («права человека» для всех). Если XIX в. породил уверенность в универсальности и всесильности разума, то век XX развеял в прах иллюзии о законах исторического развития. Выводы же о «конце истории» и «триумфе либерализма» сменились размышлениями о «крахе либерализма как определяющей геокультуры нашей миро-системы» [2]. Видимо, надо отдавать себе отчёт в том, что модернизация России — это не в последнюю очередь проблема рефлексивная, свидетельствующая о необходимости осмысления её теперешнего состояния на фоне и в контексте происходящих в мире глобальных изменений, «конца знакомого мира».
Речь должна идти о специфике российских цивилизационных традициях, эти традиции и сыграли свою решающую роль в модернизации Японии, Китая и т. д. В этом случае, как справедливо отмечает А. Н. Ерыгин, открываются возможности «взаимной допустимости, дополнительности и внутреннего цивилизационного диалога православно и либерально ориентированных исторических практик и соответствующих течений русской мысли». Как отмечает этот известный учёный, «неудача либерализации страны в опыте её радикалистского решения, исключавшего толерантность в отношении к восточнохристианской традиции, резкое усиление цивилизационного негативизма в процессе осуществления социалистического варианта модернизации, традицио-нальная «пустота» целого ряда современных попыток реформирования и преобразования советской системы в либеральном направлении — всё это явная симптоматика исторического тупика для России, если только не снизить напряжение, порождающее противостояние и «раскол» даже сегодня, когда «следы» цивилизационной традиции подверглись существенной эрозии» [3]. Модернизация не может быть игнорированием культурных традиций, она всегда остаётся переходом из традиции в современность и не может подчиняться императиву коммунистических, как это было, или либеральных, как это происходит сейчас, ценностей. В обоих случаях модернизационные процессы чреваты человеческими потерями и ущербностью поставленных целей и средств по их достижению, необходимо «толерантное совмещение этих ценностей с общим традиционалистским настроем цивилизационно-исторического способа существования общества (страны, народа)» [3]. Как рушатся империи. Неизбежно приходится отталкиваться от модернизационного опыта, который был в Советском Союзе. Вопрос состоит в том, что за коммунистическими ценностями и идеалами, которые «как дым от папиросы рассеялись во мгле», скрывалась серьёзная модернизационная модель, которая дала вполне осязаемые результаты. В Ростовском государственном университете в тот период по инициативе Ю. А. Жданова укреплялась научная составляющая образовательного корпуса. Создаются НИИ, расширяются факультеты. В 1970 году был образован самостоятельный философский факультет, который активно развивался. Особенно значимым было философское науковедение, т. н. «science of science». Здесь обосновывалась не только история культуры, но и практические сценарии повышения эффективности развития науки в Советском Союзе. Когда задумываешься о том, почему рухнул СССР, в числе других возникает вопрос: была ли наука эффективна настолько, насколько нужно? Суть проблемы состояла в том, что тяжёлая неподвижная система промышленного производства, не знавшая разнообразия форм собственности, не позволяла использовать научные наработки для технологического обновления.
Сегодня, благодаря тому, что в нашей стране принята установка на инновационное развитие, начинаешь понимать, как много было упущено в те годы. Если учитывать опыт ведущих зарубежных вузов, можно понять, что наши университеты могут быть не только пространством научной мысли. Это ещё и пространство разработки новейших технологий, вплоть до создания первых промышленных образцов. В американских университетах производство находится в их структуре. Благодаря тому, что есть научные наработки и производственные возможности, внедряются новые технологии; их обкатывают за пару лет, а через два года обновляют эти технологии, затем обкатывают новые, а отживающие «сбрасывают» в развивающиеся страны. В СССР такого механизма не могло быть в силу тяжеловесности плановой экономики. Кому и для чего было нужно обновление, если план и так выполнялся на 110—120 %? Всё вроде бы шло хорошо, а на самом деле копилось колоссальное отставание. Об этом и дискутировали ростовские профессора — М. М. Карпов, И. А. Негодаев, А. В. Потёмкин, этим штудиям были посвящены работы М. К. Петрова. Работы М. К. Петрова, Г. Н. Волкова поначалу получили поддержку в ЦК коммунистической партии. Но когда там осознали, что результаты исследований выливаются в обоснование социальных преобразований, не только прекратилась поддержка этих учёных, но, в конце концов, Петрова даже отстранили от преподавательской работы. Идеологический контроль, неэффективность науки и образования свидетельствовали о надвигающейся катастрофе.
Либеральная Россия. Проблема культурных идеалов — для России это проблема выбора своего будущего. Было бы наивно полагать, что данный выбор осуществляют философы, гуманитарии или даже научное сообщество в целом. Но внести ясность в ряд вопросов, подвергнуть их философской рефлексии представляется и возможным, и необходимым. Что нас здесь ожидает, возможно ли в этой связи уточнение вопросов культурной самоидентификации России? Прежде всего, либеральные ценности и либеральные идеалы — это не только и не столько соционорматив-ный фактор, сколько рефлексивно-регулятивный. То есть мы больше говорим о либеральных ценностях и либеральных реформах, чем имеем реальные подвижки на этом пути. Но и это важно, поскольку, не соглашаясь с великим Гёте, можно было бы сказать, что вначале всё-таки было слово. Итак, как мы представляем себе либерализм и как общественное течение, и как социальное явление?
А. Н. Ерыгин предпочитает говорить по отношению к России о русском либерализме, который явился в эпоху реформ 1861 года, с его идеалами нравственно-правовой организации общества. Разум как одна из базовых категорий, без которых не может быть понят либерализм, в этом понимании предстаёт как фундамент для позитивных социальных действий, для преобразования общества, одновременно и его сохранения как определённой социальной традиции. Другая позиция наиболее чётко была представлена в докладе профессора В. Ф. Пустарнакова. Он, прежде всего, подчёркивает то обстоятельство, что либерализм — это плод буржуазной Европы, как общественное течение он направлен на разрушение феодального строя, только в этом случае утверждаются принципы конституционного строя и примата личной свободы. Можно сказать, что в этом случае либерализм опирается и во многом равен Просвещению (в частности, во Франции), так что он во многом тождественен революционным преобразованиям, насильственной ломке прежнего социума.
Итак, возникает дилемма: как совместить либеральные ценности и социальную стабильность общества, либеральную экономику и государственное регулирование, интересы государства и интересы личной свободы? Более всего было бы непростительно в этом случае обосновывать какую-то умозрительную схему. Видимо, во внимание надо принять реальные историкокультурные факты. Первый из них — это культурно-исторический опыт: с одной стороны — Европы, Запада, а с другой стороны — России. В каждом случае это опыт уникален и неповторим. И было бы наивным полагать, что возможен единственный линейный путь развития, по которому прошла не только Европа, но который обязателен и для всех других стран. В этом случае Россия обречена постоянно догонять. И действительно, на этом пути у России не было классических образцов европейского Возрождения, Просвещения и Научной революции. А что же было? Неужели у России только опыт тоталитарного прошлого? Невозможно не учитывать глубокие исторические связи социального, политического и культурного характера России с Европой, не говоря уже о связях династических. И разве Россия не создала свою национальную науку, образование, культуру? Видимо, нельзя обходить молчанием то культурное достояние, которое является наследием нашей многовековой истории и её просвещенческих и потому либеральных традиций.
Здесь необходимо вспомнить о втором факторе, который необходимо учитывать при обсуждении проблемы. Либеральные ценности нужно погрузить в современный социокультурный контекст, каким выступает постиндустриальное общество. В этом контексте личная свобода человека не зависит от каких-либо условностей и ограничений, единственной нормой, регулирующей поведение человека, выступает закон. Нет нужды говорить о том, что такая ситуация предполагает мощные традиции правового регулирования общественной жизни, правосознания и законопослу-шания. Вряд ли можно утверждать, что у нас глубоки эти традиции. Так что вполне правомерно говорить о том, что либеральные ценности в России в сфере образования, воспитания и межличностных отношений могут и должны быть дополнены ценностями традиционными, прежде всего, православными. Но не являются ли такими же традиционными ценностями для России и просвещенческие ценности, которые глубоко укоренены и в нашей классической литературе, и в нашей общественно-политической мысли? Нельзя ведь считать, что борьба западников и славянофилов — это попытки последних вовсе увести Россию с магистральных путей исторического развития. Просвещенческими традициями, по большому счёту, либеральными ценностями наполнена вся наша многомерная культура. Проблема состоит в том, чтобы они не были заменены постмодернистской культурой, постмодернистскими образами и символами. Россия не исчерпала возможностей Просвещения. Просвещение, образование, наука, личность — вот те либеральные ценности, которые являются базовыми и для нашей истории, и для современности.
Культурная идентичность России в европейском контексте. Решение проблемы кроется в простом вопросе: граждане мы или нет? Ответ на поставленный вопрос предполагает, на наш взгляд, рассмотрение исторического опыта России в контексте модернизационной парадигмы, которая лежит в основе Западной культуры как агонального типа культуры (культуры самообновления). Модернизационный опыт в России при этом может рассматриваться, с одной стороны, как ответ на внешний цивилизационно-исторический вызов и призыв к России со стороны Запада, с другой — как опыт культурного самопознания и самоопределения, необходимой предпосылкой которого выступает нахождение себя в зеркале европейской культурной традиции. Имеется в виду античная культура (исходный модернизационный импульс), вторая модернизационная волна (новоевропейская либеральная цивилизация), модернизационно-либеральный опыт России с учётом её собственной цивилизационно-исторической специфики. Особое внимание должно уделяться возрожденческой культурной парадигме, но обращение к европейскому социокультурному опыту начинается с античности.
Античная Греция — не историческая ступень, а способ существования, мир, в котором мы живём: наука и познание, истина и добродетель, умение различать прекрасное и безобразное — всё это её достижения. Ценности демократии — верховенство закона и личная свобода — требовали разрушения тотальности мифа и всяких сословных ограничений. Между тем разочарования в разуме и науке, наблюдаемые в современном обществе, свидетельствуют об угрозах грандиозному проекту социального мироустройства на основах разума, демократии и справедливости. Мир, теряющий свою трансцендентную привлекательность, требует личного мужества и самоопределения. Демократия как культура — это мир возможностей, целостность и смысл которого создаётся усилиями индивидуального разума и воли, что предполагает способность человека стать господином над обстоятельствами, осознать их и тем самым стать творцом культуры. История самосознания разума остаётся содержанием истории европейской культуры вообще, включая идею демократии.
В этом случае развитие демократии может рассматриваться как автономный процесс, а создание сферы социума как результат радикальных изменений в сфере практического разума, потери им прежних культурных значений. В античной культуре слово («логос»), разум («нус») и свобода («элевтерия») сопрягаются и создают мир демократии как неинституализированный мир греческих граждан, каждый из которых стремился к славе и победе. Слава — это высшая ценность героя, которая подтверждает его доблесть, «арете». Герой должен рассчитывать на собственные силы, с тем чтобы соответствовать своей доблести и сохранить «тиме». Здесь он проявляет разумный замысел и может даже превзойти богов. Однако этот замысел расценивается чаще всего как хитрость. Таков хитроумный герой Одиссей. Устойчивым же социальным механизмом регуляции общества, обеспечивающим в определённой степени рациональный порядок, который олицетворяла «дике», выступает «айдос». Именно «айдос» — стыд и порицание со стороны других возвращает поведение героев к норме, обеспечивая рациональную устроенность мира.
Совершенно не случайно «нус» характеризует здесь не только степень рационального мироустройства, но и обнаружение скрытого плана конкретной ситуации. Для того чтобы разум стал нормой мироустройства, он должен был прежде стать мерой самосознания, а это связано с переходом от военных добродетелей к мирным, совершившимся в античном полисе, где «дике» стала рациональной правовой идеей, подлежащей обсуждению. Недаром «нус» как философское понятие появляется впервые в Афинах, у Анаксагора. Афины возглавили антиперсидскую коалицию и, объединив союзников, добились убедительной победы над персами, что способствовало дальнейшему расцвету демократического строя , утвердившегося в Афинах.
Особое значение приобретают народное собрание, народный суд, обсуждение всех государственные вопросов и демократическое их решение. В этих условиях огромную роль играет политическая подготовка граждан, обучение политическому искусству, «техне». В духовном пространстве античного полиса родились бессмертные образцы европейской культуры: рациональное самосознание и обретаемые на путях состязания и победы свобода и демократия. Агонистика (от греч. agon) — понятие, обозначающее состязание, борьбу, спорт, опасность, соревнование, соперничество. «Агон» как соревнование и победа представляет собой явление, пронизывающее все сферы жизни древних греков (военную, спортивную, культурную, политическую, судебную). Но отчётливо проявляется соперничество и напряжение уже на уровне повседневном, в отношениях между поселянами, например. Конечно, соперничество принадлежало, прежде всего, сфере военной: «…вечно победой блистать, над собой никакого не знать превосходства». Военные сражения и связанная с ними жестокость во многом раскрывают дух соперничества. Но с не меньшим накалом проходили у греков спортивные состязания и политическая борьба, которая привела, в конечном счёте, к демократии. Демократия не погасила остроты политической борьбы и нередко завершалась изгнанием противников за пределы города или их привлечением к суду. Даже в «конституционный» период, после проведения ряда реформ, в Афинах существовал обычай «остракизма» — изгнания неугодных лиц путём всеобщего голосования черепками керамики, удобный случай выразить своё недовольство, нанести удар сопернику.
Впрочем, не обсуждая различные варианты объяснения греческого чуда, а обратившись к историческому аспекту проблемы, можно объяснить греческую культуру «в динамике её развития». «Агон» высвобождал внутренние стимулы к художественному, интеллектуальному и политическому творчеству, что и позволило грекам совершить культурный переворот. То есть социальная динамика, как «агон», и полисная культура демократии, как её результат, заставляют возвращаться к характеристике «человека агонального», использовав выражение известного культуролога Якоба Буркхардта, который агониальное начало рассматривал как «движущую силу» в действиях личности. Главное её проявление — победить любой ценой (ценой потери имущества, денег, здоровья и даже самой жизни), но не нарушая установленных правил (игры по правилам). В последнем случае победа оборачивается поражением. Опасности, связанные с таким стремлением, очевидны. Но без этого невозможна победа, а в этом и состояла цель жизни каждого грека, без этого была бы невозможна демократия. Отсюда вытекает необычное честолюбие греков, стремление любой ценой достичь славы и известности, даже если это печальная слава Герострата, сжёгшего прекрасный храм Артемиды Эфесской. Но оно же побуждает к участию в общественной жизни, что и приводит к возведению Закона в высшую общественную ценность.
Агонистика — это показатель личной и социальной динамики, приобретаемый греками в ходе их социальной истории, прежде всего, при переходе от Микен с централизованнобюрократической системой управления к полису с его верховенством закона, правами и обязанностями граждан. Но агонистика, состязательность уже сформировали личность с её чувством собственного достоинства, защитой собственных интересов, признанием верховенства принятых правил. Всё это и объясняет рациональный тип личности с её устремлённостью к поиску неординарного решения и верховенства разума. Элементы агональной культуры прочно вошли в фундамент Европейской культуры. Это — права и достоинство личности, обязательность закона для всех, авторитет как способность «сохранить лицо» и т. д. С этим же связана высокая оценка творческого начала в деятельности личности, права авторства и запрет на плагиат, а также ориентация на «теорийный» (созерцательный) образ жизни, высокая оценка знания и науки, искусства, философии, которые вобрали в себя пафос и конкретные элементы агонистики.
Агонистика как фундамент и принцип Европейской культуры может быть понята только в корреляции с характерной для неё системой образования. Образование, культура связывают воедино рациональный пафос античного человека и его преклонение перед природой и её совершенством, «божественностью». Античный человек всем обязан образованию и воспитанию, что и делает его гражданином полиса. При этом надо учитывать, что «культура» — это в то же время и поклонение, почитание, культ. Прежде всего — религиозный. В древности человек постоянно находился в окружении богов: он встречался с ними в поле и в роще, в зелени деревьев, в тенистых гротах и в речных заводях, но боги жили и в городе. Здесь они обитали в доме человека, охраняя его домашний очаг, они же оберегали городские законы и безопасность граждан. Не случайно известный эллинист Макс Поленц вообще отождествлял религиозное благочестие и полисный патриотизм. Ведь отеческие боги оберегали родной город и жили в городе и на землях, окружающих город и входящих в его территорию.
Демократия сумела показать всему миру, что политика, право, социальное устройство — это те вопросы, во имя которых трудился греческий гений, поскольку главной целью античной культуры и философии были человеческая самодостаточность и человеческое счастье, а полис их обязательным условием. Итак, город — это и среда, и условие для полноценной демократической жизни. Не случайно закон в демократическом обществе — не только социальная норма, но ещё и форма индивидуальной рефлексии, самосознание индивида как полноправного гражданина. Античная демократия создала базовые культурные ценности Европейской государственности: возведение письменного закона в высшую норму социальной справедливости и социального правопорядка, равенство граждан перед законом и принцип разделения властей, свобода и благосостояние граждан как высшая цель государства и т. д. Древняя Греция сформировала демократическую парадигму культуры.
Сегодня, как и в прежние времена, фундаментальные философские исследования крайне необходимы. Модернизация должна быть подготовлена в гуманитарной области. Ведь философия всегда обращена к основополагающим вещам. От социального развития она ведёт к фундаментальному обоснованию развития науки, взаимоотношениям природы и человеческого познания, то есть тому, что «не возьмёшь» чистым социологическим или политологическим исследованием. В массе нынешних политологических анализов фундаментальности нет. Философия ещё со времён Аристотеля обосновывала социальные модели, рассматривала важные гражданские вопросы. Сегодня, когда происходят митинги и общественные возмущения, мы обращаемся к тем же фундаментальным вещам: в чём специфика социального развития в России? Может ли демократия прийти извне? Что такое вообще демократия? Что такое права человека?
Не получив верных ориентиров, человек в трёх соснах заблудится, что мы и видим сегодня. Должны быть услышаны подлинные идеалы философии, потому что она позволяет опираться на многовековую мысль, воспроизводить изначальные ценности — демократию, свободу. Демократия и свобода всегда были достоянием определённого гражданского сообщества. Не могу себе представить, что можно навязать свободу другому городу, государству, другой стране. Это значит поставить их в подчинённое положение по отношению к себе. Достоинство, свобода, демократия требуют и самоуважения, и самоконтроля гражданин. Так что философское образование не только не утратило своего значения, но и приобрело новое звучание. Мы обязаны сказать своё слово в определении общественных ценностей, в формировании гражданского общества, что и выступает предпосылкой и содержанием модернизации.
Заключение. Создаётся впечатление, что сохраняется неистребимый осадок, свидетельствующий об определённой заданности проблемы, погружённости её в автономное контекстуальное поле, с соответствующими смысловыми нагрузками. Этим контекстом выступает и изменяющееся понимание субъектности и трансформация культурных традиций [4]. Решающим в этой конфигурации, что и может сделать модернизацию успешной, выступает гражданское самосознание. Библиографический список
-
1. Драч, Г. В. Модернизация России: pro et contra / Г. В. Драч // Будущее России: стратегии философского осмысления. — Санкт-Петербург: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2011. — 457 с.
-
2. Валлерстайн, И. Конец знакомого мира / И. Валлерстайн. — Москва: Логос, 2003. — 355 с.
-
3. Ерыгин, А. Н. Традиционная и модернизирующаяся Россия в философии истории русского либерализма (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Б. Н. Чичерин). Ч. I / А. Н. Ерыгин. — Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 2004. — 376 с.
-
4. Новое понимание субъектности в различных контекстуальных полях. — Ростов-на-Дону: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2011. — 480 с.
Материал поступил в редакцию 11.01.2012.
Список литературы Социально-философские аспекты модернизации России
- Драч, Г. В. Модернизация России: pro et contra/Г. В. Драч//Будущее России: стратегии философского осмысления. -Санкт-Петербург: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2011. -457 с.
- Валлерстайн, И. Конец знакомого мира/И. Валлерстайн. -Москва: Логос, 2003. -355 с.
- Ерыгин, А. Н. Традиционная и модернизирующаяся Россия в философии истории русского либерализма (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Б. Н. Чичерин). Ч. I/А. Н. Ерыгин. -Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 2004. -376 с.
- Новое понимание субъектности в различных контекстуальных полях. -Ростов-на-Дону: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2011. -480 с.