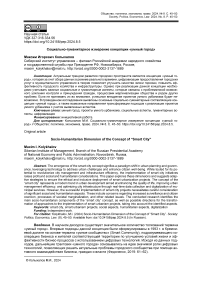Социально-гуманитарное измерение концепции "умный город"
Автор: Колыхалов М.И.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
Актуальным трендом развития городских пространств является концепция «умный город», которая за счет сбора данных в режиме реального времени, цифровизации предоставления городских услуг и муниципального управления в теории позволяет улучшить качество жизни горожан, повысить эффективность городского хозяйства и инфраструктуры. Однако при реализации данной концепции необходимо учитывать важные социальные и гуманитарные аспекты, которые связаны с проблематикой возможного усиления контроля и принуждения граждан, процессами маргинализации общества и рядом других проблем. Если не принимать их во внимание, успешное внедрение проектов умного урбанизма будет невозможно. В проведенном исследовании выявлены основные социально-гуманитарные составляющие концепции «умный город», а также возможные направления трансформации подходов к реализации проектов умного урбанизма с учетом выявленных аспектов.
Умный город, проекты умного урбанизма, социальные аспекты, гуманитарные аспекты, цифровизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149146117
IDR: 149146117 | УДК: 327:316.334.56 | DOI: 10.24158/pep.2024.8.5
Текст научной статьи Социально-гуманитарное измерение концепции "умный город"
Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Новосибирск, Россия, ,
Siberian Institute of Management, Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Novosibirsk, Russia, ,
Для отработки подходов и ключевых процессов концепции «умный город» на практике были возведены так называемые «живые лаборатории» для разработки, тестирования и совершенствования технологий, необходимых для реализации умных форм урбанизма. Такие проекты, как Сонгдо в Южной Корее, Масдар в ОАЭ и PlanIT Valley в Португалии, обеспечивают «идеализированное видение возможного будущего, избегая при этом беспорядочных реалий устоявшихся городов» (Kong, Woods, 2018: 687). В России также был реализован проект «умного города» с нуля – город Иннополис в Республике Татарстан1.
Ряд исследователей отмечает, что в настоящее время в рамках отечественной политической науки социально-гуманитарные аспекты внедрения цифровых технологий в общество слабо разработаны, до сих пор нет развернутой социально-политической концепции «умного города». Социологические исследования также свидетельствуют, что идея такого города пока не популярна в регионах России, даже в столичной Москве 54 % граждан не готовы еще жить в «умном городе» и воспользоваться его услугами (Василенко и др., 2020: 53).
Таким образом, исследовательский вопрос данной статьи можно сформулировать следующим образом: какие основные социально-гуманитарные аспекты присущи концепции «умный город», в чем их специфика и особенности; каким образом необходимо трансформировать подходы концепции с учетом данных аспектов, на основе позиции и интересов городского социума?
В связи с этим исследуем основные социально-гуманитарные аспекты концепции «умный город», связанные с воздействием цифровых технологий управления на изменение характера и образа жизни горожан, а также реакцию, эффекты и феномены, которые эти трансформации вызывают в социальной среде. Поставим задачу выявления специфики возникающих проблемных полей. Проанализируем показательные кейсы строительства новых «умных городов» и реализацию проектов умного урбанизма в действующих мегаполисах. Предпримем попытку сформулировать направления совершенствования концепции, учитывая данные факторы, имеющиеся риски и потенциальные возможности.
Рост секьюритизации городской среды, феномен реализации концепции в авторитарных режимах . Внедрение цифровых технологий в городскую инфраструктуру позволяет осуществлять мониторинг, сбор большого количества данных, управление городскими процессами в режиме реального времени и, следовательно, контролировать город и его жителей. Таким образом, «умный город» не только помогает организовывать и повышать эффективность предоставления услуг, но и дает возможность обеспечивать контроль над горожанами, при этом данные собираются, хранятся, анализируются и интерпретируются как форма общественного права, а не личной свободы. Это отражает дисбаланс между владельцами и менеджерами цифровых инфраструктур и их пользователями, что подвергается критике исследователями за сокрытие растущей секьюритизации городской среды посредством постоянного сбора и мониторинга данных или «наблюдения за данными» (Kong, Woods, 2018: 688–690).
Можно привести примеры инициатив умного управления, которые позволяют использовать эти системы с точки зрения внутриполитических процессов, усиления контроля, принуждения и ограничения личных свобод, такие как цифровые удостоверения личности в руках сил Талибана в Афганистане, использование кадров с дорожных камер для контроля за ношением хиджаба женщинами в Иране (Akbari, 2022: 447–448).
Еще в качестве примера можно привести проект NEOM – умного города в Саудовской Аравии. Он представляет собой предлагаемый линейный город длиной 170 км и претендует на роль не только умного, но и когнитивного города, основанного на искусственном интеллекте, «который постоянно учится и прогнозирует способы сделать жизнь более простой» и «бесшовной». Однако исследования подчеркивают, что данное видение «умного города» может быть проблематичным в рамках политического режима, имеющего долгую историю гендерного, этнического, религиозного и политического угнетения (Kong, Woods, 2018: 683).
Также характерной является система централизованного интернет-контроля и наблюдения, известная как «Великий китайский файрвол». Раннее осознание китайскими лидерами наступления новой информационной эпохи и угрозы роста оппозиционных политических взглядов проложило путь к одной из первых закрытых и централизованных моделей управления интернетом. В концепции файрвола были интегрированы фильтрация, контроль и наблюдение. Это видение стало основой для современного строительства более пятисот умных городов по всему Китаю на базе цифровой сети, управляемой наблюдением, которая доказала свою устойчивость во времена политического кризиса или пандемии COVID-19 (Akbari, 2022: 445).
Таким образом, концептуализация, управление и реализация проектов умного урбанизма значительным образом встроены в политические системы, что позволяет властным структурам использовать результаты их деятельности для достижения своих целей. Более того, каждый технологически реализуемый инструмент или цифровая платформа отражают политические конструкции, в которые они встроены, а также влияют на создание новых социотехнических взаимосвязей, которые никогда не могут быть аполитичными (Sharifi et al., 2021).
Следовательно, вопрос использования данных, собираемых, анализируемых и используемых в процессе деятельности «умного города», является очень насущным и весьма чувствительным. Безусловно, обеспечение безопасности граждан, сохранение инфраструктуры и элементов городской среды является релевантной и базовой задачей в процессах умного городского управления. Однако эти инструменты могут использоваться и для достижения идеологических внутриполитических целей, таких как усиление контроля и принуждение граждан, особенно в авторитарных режимах.
Очевидно, что ограничить использование этих возможностей ввиду наличия соответствующей юрисдикции и механизмов власти со стороны режима не представляется возможным. В этих условиях задача научного сообщества и исследователей данной области научной проблематики – информировать широкие круги общественности о возникающих рисках, возможностях сбора, анализа и контроля данных о гражданах, которые в теории могут стать инструментами концепции «умный город».
Технократичность подходов концепции «умный город» . Внедрение цифровых технологий на основе технократических подходов в социальные системы имеет ряд специфичных черт и проблемных полей. Вновь формируемое городское пространство, с одной стороны, призвано повысить комфортность и качество жизни, простоту получения городских услуг; с другой – одним из его сущностных смыслов является обеспечение технологических компаний профессиональной рабочей силой, которая находится в непосредственной близости от мест расположения технологических процессов и не нуждается в том, чтобы выезжать за пределы соответствующей территории к месту жительства или с культурно-досуговыми целями – все можно получить на месте, в цифровом формате. Соответственно, возможностей для производственной деятельности значительно больше.
По мнению исследователей, логика техницизма выражает значительные возможности научно-технического прогресса, которые могут быть использованы для экономического роста, развития модернизационных процессов, придания обществу нового качества. Однако, когда цифровые трансформации становятся не элементом социального процесса, а социально определяющим фактором, возникают проблемы, связанные с негативной реакцией людей, непринятием новой системы ценности. Происходит стагнация развития творческого начала человеческого потенциала (Василенко и др., 2020: 54).
Одним из лидеров реализации подходов умного урбанизма является единственный в мире мегаполис – город-государство Сингапур, где развитие городской среды является главной государственной задачей с соответствующим вниманием властей, финансированием и приоритетностью в государственной политике. Тем не менее, по словам премьер-министра Сингапура Ли Сянь Лун, «несмотря на то, что инициатива “Умная нация” была запущена в 2015 году, прорывных планируемых ощутимых результатов до сих пор не достигнуто» (Kong, Woods, 2018: 692).
Действительно, игнорирование гуманитарного развития личности и общества не могло не сказаться на качестве человеческого капитала Сингапура и привело к целому ряду серьезных проблем в развитии государства. Акцент в системе образования и дальнейшем выборе жизненного пути был сделан на технократические подходы. Это привело к сильной технологизации общества и общественного сознания. В результате литература, искусство, творческие специальности, научные исследования неприкладного характера перестали интересовать сингапурцев. В современных высокотехнологичных культурных центрах Сингапура выступают иностранные знаменитости, однако посетителями являются в основном туристы и приезжие из других государств. Как констатируют исследователи, «за полвека в обществе не сложилось ни одной научной, музыкальной, литературной, художественной или поэтической национальной школы» (Василенко, 2018: 172).
При этом в Сингапуре пожилые граждане не спешат внедрять умные технологии в свои домовладения, несмотря на то, что они дают потенциал использовать более экономичную форму ведения домашнего хозяйства, ввиду ограничения на общение, социализацию, реализацию исторических традиционных действий. Очевидно, что умный урбанизм будет успешным только в том случае, если его ключевые бенефициары – жители города будут иметь внутренние мотивы для тесного взаимодействия со сторонниками концепции «умного города». Такое участие может быть разным: от общего, когда человек готов к изменениям, до более конкретного, когда он готов предоставить свои личные данные и принять новые привычки. В то же время потенциал для расширения прав и возможностей, основанный на цифровом доступе, владении и грамотности, «оставляет мало места для технологически неграмотных» и ряда других социальных категорий (Kong, Woods, 2018: 694).
Таким образом, при реализации концепции «умный город» основным бенефициаром должны выступать местные жители, а затем уже технологические компании, бизнес, местные и государственные власти, поэтому система ценностей и приоритетов должна формироваться исходя из данной иерархии. Весьма чувствительным является потеря гуманитарного акцента в развитии социума «умного города», сведение всей сложной системы социальных взаимоотношений городской среды к упрощенным алгоритмам и технологическим подходам. Как показывает пример Сингапура, это чревато серьезными проблемами и подрывает сам смысл «умного города». Следовательно, цифровое пространство не должно подменять собой гармоничную среду обитания для человека, а цифровая трансформация общества должна оставлять возможности для гуманитарного развития.
Следующим важным вопросом является учет интересов социально чувствительных категорий, таких как пожилые люди, малограмотные граждане и ряд других. В этом случае представляется, что проекты умного урбанизма следует реализовывать поэтапно, растянуто во времени, с разной степенью проникновения в различные социальные категории и территории городского пространства.
Изменение характера социального взаимодействия, усиление расслоения и маргинализация общества . Цифровые технологии позволяют трансформировать и стирать границы, охватывающие традиционные категории власти и общества в целом. Социально-гуманитарные последствия этого весьма значительны и распространяются не только на вертикальные формы управления (административно-властная иерархия), но и на горизонтальное взаимодействие (внутри социальных групп и между ними). Например, домохозяйства поощряются к тому, чтобы стать взаимосвязанными сетями взаимодополняющих субъектов, и им не рекомендуется оставаться изолированными единицами, действующими независимо друг от друга. Как отмечают исследователи, «гражданская ответственность приобретает значение, выходящее за рамки семьи, дома или окружающей среды человека, поскольку взаимосвязь людей побуждает их становиться более ответственными друг перед другом, а также перед своим окружением» (Kong, Woods, 2018: 700).
Из этого следует, что «умный город» воплощает желаемую картину будущего, в котором современные комфортные города процветают на основе сбора и использования данных, ориентированных на граждан и предоставляющих справедливые и эффективные муниципальные услуги. Однако при этом видение «умного города» может сопровождаться усилением вертикального и горизонтального взаимодействия, ростом ответственности и объединиться с перспективой «умного» контроля (Akbari, 2022: 445).
Еще один социальный аспект умного урбанизма – это формирование концепта «умное гражданство», которое рассматривается как результат успешного «умного» управления. С одной стороны, «гражданство является инклюзивной формой категоризации» (Sharifi et al., 2021); с другой – «умное гражданство» потенциально или даже по своей сути вызывает разногласия различных социальных категорий, поскольку не все могут либо хотят ей соответствовать. Это означает, что понятие «умного гражданства» может создать социальное расслоение настолько значительно, насколько оно призвано его преодолеть в идеальном видении концепции. В частности, те, кто выходит за рамки по выбору или жизненным обстоятельствам, с точки зрения компетенций и характеристик «умного гражданина», по определению концепции являются неразумными, непонятными для сети (Kong, Woods, 2018: 695).
В идеале предполагается, что индивидуальные интересы и возможности граждан совпадают с запросами «умного» образа жизни и что практика умного урбанизма оправдана идеологией. Однако там, где интересы личности не совпадают с интересами «умного города», они могут подорвать легитимность и прогресс умного урбанизма. Это может привести к тому, что внедрение и полезность интеллектуальных технологий будут ограничены из-за отсутствия у них положительного резонанса и ценности для жизни их пользователей (Sharifi et al., 2021).
Таким образом, внедрение концепции «умного города» чревато маргинализацией общества – формированием социальных категорий городских жителей, не соответствующих новому образу жизни, которые объективно либо субъективно оказываются исключенными из «умной» городской среды, не могут являться опорой реализации данной концепции или становятся противниками и серьезным препятствием.
Высвобождение работников, занятых в сфере городского управления и обслуживания, за счет внедрения цифровых технологий . Возможно, самой большой силой, способной существенно трансформировать современный жизненный уклад, является вторжение цифровых технологий во все большее количество сфер жизни, особенно тех, которые связаны с городской средой. Такие технологии «приводят к осуществлению ежедневных взаимодействий, процессов, возможностей, упорядочивают пространственные конфигурации и потоки» в автоматизированном режиме. Иными словами, «умное» пространство отражает новое сочетание городских пространств, объединяющих цифровое и аналоговое, онлайн с офлайн и публичное с приватным.
Исследователи отмечают, что умная инфраструктура городов приведет к большей автоматизации и, следовательно, к меньшей зависимости от сокращающейся и все более стареющей рабочей силы. Эти процессы станут инициаторами экономического развития за счет совершенствования цифровой экономики, связанной с финансовыми технологиями, технологиями здравоохранения, медиапроизводством, и обеспечат более высокую эффективность использования ресурсов (Kong, Woods, 2018: 692).
В то же время у данных процессов есть обратная сторона медали, связанная со значительным изменением характера осуществления своей деятельности сотрудниками ряда сфер общественных отношений, а также подменой функций работников, особенно социальной сферы городского хозяйства, что приведет к необходимости их высвобождения либо серьезной трансформации их деятельности, например, в качестве обслуживающего персонала «умной» инфраструктуры. Потенциал этих трансформаций велик – в теории цифровые технологии, искусственный интеллект, технологии дистанционной коммуникации могут заменить подавляющее большинство сотрудников, занятых в данной сфере.
По словам А. Акбари, «умная экономика, умные технологии, такие как блокчейн, привели к нестабильным условиям труда и углубили разрыв между фрилансерами на Глобальном Юге и владельцами цифровых платформ на Глобальном Севере» (Akbari, 2022: 446).
Можно констатировать, что гипертрофированное внедрение цифровых технологий в сферу городского хозяйства и муниципального управления может привести к фатальным последствиям с точки зрения востребованности специалистов в целом ряде сфер городской жизни. Так, в первую очередь окажутся невостребованными специалисты по взаимодействию и связям с общественностью, которые будут заменены на электронных помощников и чат-ботов. Далее использование цифровых технологий и ИИ может значительным образом отразиться на сферах науки, здравоохранения, образования, электоральных процессах, муниципального и регионального управления.
Нейросети уже сейчас замещают художников, поэтов, музыкантов, искусственный интеллект может в значительной доле заменить ученых, врачей, управленцев, а в сочетании с дистанционными технологиями, невостребованной может оказаться большая часть учителей в школах и преподавателей в вузах и ССУЗах. Дилемма «восстания роботов» остается на повестке дня. Это стало особенно заметно в 2017 г., когда Facebook1 разрабатывала чат-ботов на основе искусственного интеллекта для общения с пользователями.
Боты научились свободно общаться с людьми так, что в переписке пользователи даже не могли определить, что разговаривают с роботом. В какой-то момент обучения боты получили возможность общения друг с другом и стали разговаривать между собой на непонятном для людей языке. Они писали на английском, но фразы были собраны из хаотичного набора слов. Позже выяснилось, что была допущена ошибка: роботам не прописали задачу общаться только на английском. Однако создание искусственным интеллектом «удобного» для себя языка породило в СМИ большой резонанс на тему восстания машин (Рослова, 2023: 276).
В этой связи при реализации концепции «умный город» необходимо предусмотреть данные факторы, сформировать программы замещения исходя из интересов и возможностей высвобождаемых категорий, их дальнейшую социализацию и перепрофилирование. При этом необходим разумный уровень внедрения цифровых технологий в процессы государственного и муниципального управления, сохранение за человеком ключевых функций контроля и принятия политических и государственных решений.
Заключение . Реализация концепции «умный город» несет в себе ряд важных, чувствительных для городского сообщества социально-гуманитарных аспектов, которые необходимо учитывать, а по большому счету, ставить во главу угла, при разработке концептуальных подходов, этапов и механизмов реализации проектов умного урбанизма. Так, исследование показало, что основными аспектами являются рост секьюритизации городской среды, феномен реализации концепции в авторитарных режимах, чрезмерная технократичность подходов концепции «умный город», изменение характера социального взаимодействия, усиление расслоения и маргинализация городского сообщества, высвобождение значительного количества работников, занятых в сфере городского управления и обслуживания.
В этих условиях необходимо, чтобы основным бенефициаром реализации концепции выступали местные жители, а не технологические компании, соответственно, концепция должна иметь гуманистический, а не технократический характер, в то же время задача научного и образовательного сообщества – информировать общественность как о возможностях, так и о возникающих рисках, с которыми сопряжена реализация концепции «умного города». Концепция должна реализовываться на основе принципа инклюзивности, с учетом интересов всех категорий населения, в противном случае общественный консенсус и соответствующая мотивация не возникнет, а сформируются более или менее значительные очаги неприятия и сопротивления. Представляется, что необходим разумный допустимый уровень внедрения цифровых «умных» технологий в процессы городского управления и сохранение за человеком основных функций контроля и принятия ключевых решений.
Список литературы Социально-гуманитарное измерение концепции "умный город"
- Василенко И.А. "Сингапурское чудо" в фокусе политического анализа: искушение и разочарование в азиатской хай-тек-утопии // Власть. 2018. Т. 26, № 6. С. 169-175. DOI: 10.31171/vlast.v26i6.5907 EDN: YBKHFJ
- Рослова Е.Ю. Проблемы внедрения концепции "умный город" в города Российской Федерации // Актуальные вопросы современной экономики. 2023. № 1. С. 273-277. EDN: CSPJCO
- "Умный город" как социально-политический проект: каким он будет в России? / И.А. Василенко [и др.] // Власть. 2020. Т. 28, № 1. С. 51-63. DOI: 10.31171/vlast.v28i1.7042 EDN: LOELNI
- Федоненко М.В. Опыт развития "умных" городов в современном мире // Социально-экономические явления и процессы. 2019. Т. 14, № 2 (106). С. 61-72. DOI: 10.20310/1819-8813-2019-14-2(106)-61-72 EDN: IXZHXB
- Akbari A. Authoritarian smart city: A research agenda // Surveillance and Society. 2022. Vol. 20, no. 4. P. 441-449. DOI: 10.24908/ss.v20i4.15964 EDN: CLVKKB
- Kong L., Woods O. The ideological alignment of smart urbanism in Singapore: Critical reflections on a political paradox // Urban Studies. 2018. Vol. 55, no. 4. P. 679-701. DOI: 10.1177/0042098017746528
- Three decades of research on smart cities: mapping knowledge structure and trends / A. Sharifi [et al.] // Sustainability. 2021. Vol. 13, no. 13. Article 7140. DOI: 10.3390/su13137140 EDN: ZIHUNC