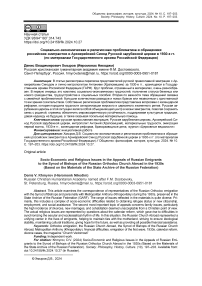Социально-экономическая и религиозная проблематика в обращениях российских эмигрантов в Архиерейский Синод Русской зарубежной церкви в 1930-х гг. (по материалам Государственного архива Российской Федерации)
Автор: Хмыров Д.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 10, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена переписка представителей русской православной эмиграции с Архиерейским Синодом и лично митрополитом Антонием (Храповицким) за 1930-е гг., хранящаяся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). Круг проблем, отраженный в материалах, очень разнообразен. В первую очередь это комплекс социально-экономических трудностей, получение статуса беженца или нового гражданства, трудоустройства и социальных пособий. Вторая по важности тема обращений связана с семейной проблематикой: большим количеством разводов и новых браков или незаконным с христианской точки зрения сожительством. Собственно религиозная проблематика представлена вопросами о календарной реформе, которая породила трудности синхронизации мирского и церковного жизненного ритма. Русская зарубежная церковь в этой ситуации являла собой объединяющий центр в жизни эмигрантов, помогая сохранять связь с родиной, стремясь обеспечить мировоззренческую устойчивость, поддерживая культурные традиции, давая надежду на будущее, а также оказывая посильную материальную помощь.
Русская православная эмиграция, русская зарубежная церковь, архиерейский синод русской зарубежной церкви, митрополит антоний (храповицкий), материальные трудности, эмиграция первой волны, 1930-е гг, календарная реформа, бракоразводные дела, журнал «церковные ведомости»
Короткий адрес: https://sciup.org/149146662
IDR: 149146662 | УДК: 93/94“193”:314.743 | DOI: 10.24158/fik.2024.10.27
Текст научной статьи Социально-экономическая и религиозная проблематика в обращениях российских эмигрантов в Архиерейский Синод Русской зарубежной церкви в 1930-х гг. (по материалам Государственного архива Российской Федерации)
Санкт-Петербург, Россия, ,
St. Petersburg, Russia, ,
Православные верующие, покинувшие Россию вследствие социально-политических катаклизмов начала ХХ столетия, в новых для себя условиях столкнулись со многими трудностями, для решения которых нередко вынуждены были прибегать к помощи Архиерейского Синода Русской зарубежной церкви и лично его председателя митрополита Антония (Храповицкого). Анализ подобных обращений и путей их решения позволяет расширить исторические знания о жизни представителей русской церковной эмиграции в 1930-х гг.
В Государственном архиве Российской Федерации в составе фонда Р-6343 «Архиерейский Синод Русской православной церкви за границей, г. Сремские Карловцы, Югославия» имеется дело 288 «Переписка Архиерейского Синода с церковнослужителями по разным вопросам. 1932–1941»1.
Круг проблем, беспокоивших русских эмигрантов первой волны, отраженный в материалах этого дела, очень разнообразен. В первую очередь это комплекс социально-экономических трудностей, связанных с условиями жизни, когда остро вставал вопрос о получении статуса беженца или нового гражданства, а также связанных с этим социальных преференций в виде государственного обеспечения, пособий, пенсий, открывавшихся возможностей трудоустройства. Вторая по важности тема обращений связана с семейной проблематикой: большим количеством разводов и новых браков или незаконным с христианской точки зрения сожительством. Непосредственно религиозная проблематика представлена, в частности, вопросами о проведенной в принимающих странах реформе календаря, что породило трудности синхронизации собственно мирского и церковного жизненного ритма, противостояние приверженцев разных стилей и взаимное недоверие в среде православной паствы.
Примечателен посыл, с которым верующие писали в Синод и лично его председателю митрополиту Антонию (Храповицкому) как единственной оставшейся надежде на помощь. Вот лишь некоторые характерные фразы: «Обращаюсь к Вам [митрополиту Антонию] с надеждой на Вашу помощь. Вы своим Высоким положением находитесь ближе к Королю и Патриарху и всем высокостоящим людям»2; «Ваше Высокопреосвященство, Преосвященнейший Владыко, обращаюсь к Вам с просьбой не отказать своими указаниями разъяснить нам некоторые вопросы, касающиеся нашей духовной жизни»3; «А я, твердо веруя в доброту Вашего Блаж[енства] и глубокое понимание нужд и запросов Вашей паствы, покорно прошу <…>»4 и так далее.
В одном из таких писем представлен типичный для семьи русских эмигрантов случай. В 1932 г. Любовь Русияк обратилась в Архиерейский Синод по делу относительно судьбы своего сына: «Прошу вас как мать использовать свое влияние и не дать возможности отнять у меня сына. Это последнее испытание окончательно убило меня»5. Из письма следует, что семья его автора ко времени обращения девять месяцев проживала в Югославии. Ее супруг являлся сотрудником технического завода в муниципалитете Ариле. Старший сын Владимир последние годы проживал отдельно от родителей. Он получал европейское образование: сначала – в Морском корпусе, затем в течение пяти лет проходил курс горного инженера в Горной академии Чехословакии. Однако семья, желая воссоединиться, предприняла для этого определенные усилия, и сын в 1931 г. после завершения обучения, получил сербскую визу. «Наконец мы снова увиделись с сыном и <нрзб.> с ним не расставаться <…>»6. Родители по традиции рассчитывали на сына как на свою опору и помощь. Владимир благополучно устроился на рудник близ поселка Суково. Однако к этому времени у него формально закончился срок визы, в связи с чем Министерство иностранных дел решительно потребовало от него покинуть государственные пределы в самое короткое время. Далее в письме Л. Русияк со ссылкой на документы контролирующих органов поясняет, что ее сын политически благонадежен и трудолюбив, и эти качества могли бы принести существенную пользу принимающей стране. В конце письма автор просит первоиерарха обратиться к королю, чтобы отменить данное решение министерства. Требование МИД покинуть Югославию, отсутствие средств, отказ других европейских стран принять Владимира Леонидовича Русияк означало семейную драму и полную неизвестность касательно дальнейшей судьбы.
Это обращение иллюстрирует трагедию многих русских беженцев, у которых имелись серьезные проблемы, требовавшие незамедлительного решения. Но самое тяжелое – это то, что угроза вынужденной разлуки с близкими возникала исключительно по формальным причинам, таким как истечение срока визы. К сожалению, в деле отсутствует информация о дальнейшей судьбе этой семьи.
Важно отметить, что тема получения гражданства для русских беженцев имела не только и не столько утилитарный характер. Действительно, с получением югославского гражданства для ряда специалистов в разоренной войной стране открывалась перспектива выгодного трудоустройства и в некоторых случаях карьерного роста. Однако этим путем шло меньшинство, многие же русские эмигранты считали получение гражданства в буквальном смысле слова предательством России. В подобных случаях заключались временные трудовые договоры. «В 1933 г. на югославской государственной службе было занято не более 10 %, то есть менее 4 000 эмигрантов», – сообщает современный немецкий исследователь К. Бухенау (Buchenau, 2011). Отметим, что во всех балканских государствах частные предприниматели пользовались уязвимым положением русских, не имеющих гражданства. Эмигранты получали меньшую заработную плату по сравнению с гражданами той или иной страны, а в кризисных ситуациях подлежали увольнению в числе первых. В межвоенный период Королевство С. Х. С. ограничивало право на свободное перемещение эмигрантов и в связи с этим обращало «особое внимание на выдачу паспортов и регулирование режима въездных и выездных виз (опасаясь, что предоставлением полной свободы передвижения десяткам тысяч человек они в значительной степени обострят вопрос общей безопасности и облегчали заброску большевистских агентов)» (Йованович, 2005: 178).
По словам российской исследовательницы З.С. Бочаровой, «отсутствие унифицированного подхода к статусу российских беженцев, наличие разнообразных документов, которыми они могли обладать, означали наделение их разным объемом прав, который варьировался в зависимости от страны расселения и определялся преимущественно национальными законами об иностранцах» (Бочарова, 2011: 163). В таком правовом хаосе, когда имелись лакуны в законодательстве о беженцах, эмигрантские общественные организации неофициально обладали представительскими полномочиями. Архиерейский Синод умело пользовался этим окном возможностей для помощи своей пастве.
С темой социальной адаптации тесно связана одна из главных проблем эмигрантского существования 1930-х гг., касающаяся материального обеспечения русского зарубежного духовенства и паствы, простых мирян. В деле 288 сохранился ряд писем на имя Архиерейского Синода, в которых детально раскрывается указанная проблематика. К примеру, переписка с Синодом проживавшей в Берлине Веры Александровны Вишендорф, датированная 1931, 1932 и 1934 гг., приоткрывает суровые будни беженской жизни рядовой прихожанки Русской зарубежной церкви. Она сообщает, что вынуждена голодать и жить в сырой и холодной квартире, поскольку ее доход составляет лишь 8 немецких марок в месяц1. Она зарабатывает продажей прессы на улице, по 16 часов в сутки, «под дождем, снегом, морозом и вьюгой», питается картофелем и сухим хлебом2. Примечательно, что даже в этих труднейших условиях нужды, отказа от необходимого, наличия многих заболеваний, она находила в себе силы еще жертвовать на Церковь.
Как в эмигрантской среде, так и в массе оставшихся на родине соотечественников находились те, кто не мог по тем или иным обстоятельствам обеспечить себе более или менее сносное существование. Ярким примером является судьба многодетной Татьяны Георгиевны Казанцевой, проживавшей в Харькове. Русские эмигранты, хотя и в силу очень скромных возможностей, пытались поддержать своих единоверцев в России. В 1935 г. с ходатайством о помощи ее семье перед Архиерейским Синодом выступил проживавший в Париже Петр Юницкий. Приведем характерные выдержки из его обращения, поскольку здесь отражены типичные аспекты личной трагедии и обстоятельств той эпохи. Петр Юницкий был каким-то образом проинформирован об этой нуждающейся семье. Он просил в долг для них и эти обязательства брал на себя, находясь также в труднейших обстоятельствах – два года без работы (поскольку во Франции для иностранцев в вопросах трудоустройства существовали значительные препятствия), не имел средств на аренду комнаты и заботился о тяжело больной матери. Тем не менее он обещал первоиерарху, которого особо чтил, при возможности получения заработка отдать долг, испрашиваемый для поддержки оставшейся в России «усердной прихожанки»: «Ваше Преосв[ященство] Преосв[ященнейший] Владыко. Пришло из Харькова ужасное письмо со слезной просьбой не дать погибнуть или от голода, или от самоубийства в отчаянии от когда-то усердной Вашей прихожанки. Из туманного намека не разберешь – единственного кормильца большой семьи – мужа не то расстреляли, не то сослали куда, да там и умер. Одновременно сама писавшая это ужасное письмо почему-то целый год не видела детей – по-видимому, была в тюрьме, вернее, в тюремной больнице, потому что одновременно с исчезновением мужа сама должна была перенести две трепанации черепа и почти год лежала почти на волосок от смерти. Похоже на то, что мужа убили, а ей пробили прикладами череп и отправили в тюрьму (или уже в тюрьме искалечили?). Там же перед выходом получила брюшной тиф, осложнившийся заражением крови от каких-то впрыскиваний. 2 месяца лежала без сознания. Сейчас вернулась домой, в глазах потемки, головокружения, шатается, как былинка, и находит дома детей без всякого присмотра, голодных, холодных, разутых, запуганных. Просят кушать, а помощи ждать не от кого. Все знакомые отвернулись от страха за свою шкуру. И вот шатающаяся от слабости, с подгибающимися ногами несчастная должна идти искать работу. В 7 часов уже на работе и до 10–11 часов вечера! Никаких отдыхов. А придет домой – надо детям все приготовить, привести в порядок – ведь их целая куча и все мал мала меньше. А там, вместо того чтобы ложиться спать, надо какую-то сдельную работу делать – иначе не прокормишь всех. Пишет: “Сейчас 4 часа утра, через 3 часа я уже должна быть на работе, а я еще и не думала ложиться, и часто и прямо надо идти на работу”»1.
Пересказав эти трагические события, Петр Юницкий обращается к митрополиту Антонию с «последней надеждой»: «Владыко митрополит, я знаю, отлично знаю, что у Вас лично ничего нет, Вы всегда были бессребреником, но, может быть, как-либо можно помочь, собрать какую-либо – хоть месяца 2 при том продержать, чтобы не наложила руки, а там я уж из кожи вылезу – постараюсь сам помогать. Только бы поздно не оказалось. <…> …не для себя прошу, а спасти и тела, и души других, так как теперь двери везде закрыты. Я прошу только временно одолжить. Послать просто туда этой несчастной семье хоть малую помощь – перевод через Торгсин – я потом оправлюсь от забот о болезни матери, найду работу – выплачу всё до копейки. Увы, люди теперь стали черствыми»2. При этом автор письма просит не печатать в газете «ни фамилии, ни даже города», опасаясь, что его подопечной могут грозить худшие неприятности, вплоть до «новой трепанации черепа»3.
Архиерейский Синод и лично митрополит Антоний не могли остаться равнодушными к такому живому участию постороннего человека и изыскали возможность доставить просимую адресную помощь через протоиерея П. Головидова. Вопрос о возвращении долга не поднимался4.
Архиерейский Синод официально занимался регулированием семейных дел, публикуя в печатных органах «Церковные ведомости» и «Церковная жизнь» информацию о бракоразводных процессах, объявления о безвестном отсутствии одного из супругов и пр. К сожалению, приходится констатировать, что количество разводов в среде российских беженцев в условиях эмиграции было очень высоким (Хмыров, 2015). Самый большой массив в номенклатуре рассматриваемых Архиерейским Синодом дел составляли именно связанные с ними процессы. В этом контексте русские беженцы часто обращались в Синод с просьбой о снижении или обнулении бракоразводных пошлин в силу своей неплатежеспособности. Так, в письме Архиерейского Синода от 15/28 января 1935 г. на имя Ксении Александровны Олениной сообщается, что сумма бракоразводной пошлины, причитающейся с нее, снижена до 400 динар. Митрополит Антоний, ознакомившись с обстоятельствами дела, предложил «по обстановке, указанной в прошении … ей уменьшить пошлину»5.
Даже понимая трудности беженской жизни (и по возможности помогая их преодолеть), все-мейных вопросах Архиерейский Синод оставался твердо верен каноническому Преданию. Так, митрополитом Антонием было получено письмо, датированное 16 января 1935 г., от вдовы генерал-майора Н.М. Переверзева, воевавшего в 1919 г. в Сибири в рядах армии адмирала Колчака, Евгении Владиславовны Переверзевой6. Погибший генерал являлся ее третьим супругом, два предыдущих скончались еще до войны. После эмиграции из России она проживала в Харбине, откуда в 1921 г. переехала в г. Битолу Королевства С. Х. С. (современная Северная Македония) со своим новым избранником Борисом Николаевичем Подторецким. Все предшествующие 14 лет пара стремилась «заключить законный брак, освященный Церковью»7. Препятствием являлись канонические правила, запрещающие вступление в четвертый брак. По словам Евгении Владиславовны, в 1934 г. Сербская православная церковь в виде исключения и с благословения архиерея допустила вступление в четвертый брак. Поскольку пара проживала в Битоле, то обратилась к местному епископу Охридскому и Битольскому Николаю (Велимировичу) с просьбой благословить заключение брака, который по факту продолжался четырнадцать лет. Е.В. Переверзева отмечает в письме, что сам сербский епископ, заверив ее в своем расположении и понимании, тем не менее рекомендовал ей, как подданной России, обратиться в Архиерейский Синод:
«Его Преосвященство епископ Николай, узнавши, что я русская подданная, предложил мне обратиться к Вашему Блаж[енству] как Предстоятелю Русского архиерейского синода за границей и просить Вас дать Ваше согласие и благословение на этот брак»1. Таким образом, будучи российской подданной, автор вынуждена была обратиться к митрополиту Антонию за архипастырским благословением и разрешением вступить в четвертый для нее брак с Борисом Николаевичем Подторецким, чтобы их совместная 14-летняя жизнь была освящена Церковью.
По данному вопросу это письмо было не единственным, поскольку жених Б.Н. Подторецкий со своей стороны также обратился к первоиерарху. Он ссылался на важность для себя получения благословения, мотивировал свою позицию рождением и крещением в Русской Церкви, взывал к одобрению и ходатайству уже упомянутого епископа Николая, просил снизойти к трудностям эмигрантской жизни и архиерейским благословением снять грех незаконного сожительства2.
Тем не менее все вышеперечисленное не имело оправдательного значения для Архиерейского Синода, от лица которого митрополит Антоний письмом от 15/28 января 1935 г. выразил отказ. Он объяснил, что вступление в третий брак Церковь допускает лишь «как крайнее снисхождение», от человека требуется осознание своей «морально-нравственной слабости и чувство покаяния». Вердикт гласил, что Церковь «определенно не дает своего благословения на четвертый брак, признав его слабостью, к которой не может быть снисхождения, и искушением, с которым надо бороться. Ввиду изложенного я не могу ни дать Вам просимого благословения, ни ходатайствовать в сем перед Арх[иерейским] Синодом»3.
Решение первоиерарха Русской зарубежной церкви нуждается в пояснении. С сугубо юридической точки зрения, то есть с точки зрения канонического строя Вселенского Православия и традиций Древней Церкви, опирающихся на решения Вселенских и Поместных Соборов, а также на святоотеческое наследие, в частности, на канонические правила святителя Василия Великого, резолютивная часть решения, вынесенного митрополитом Антонием, соответствует им в полной мере. Другими словами, Вселенская Церковь, право которой имплементирует первоиерарх, признает и освящает лишь три брака, снисходя к немощам человека и его жизненным обстоятельствам, таким как смерть одного из супругов, безвестное отсутствие либо причины, по которым канонами допускается развод (супружеская измена, психические заболевания и ряд других). С другой точки зрения, и она нам кажется более справедливой и соответствующей духу христианского милосердия, решение Сербской Церкви, на которое ссылается Е.В. Переверзева, и последующий опыт отдельных поместных церквей говорят о том, что в исключительных случаях благословение на четвертый брак, учитывая жизненные обстоятельства человека (как-то смерть трех предыдущих супругов и совместное открытое длительное проживание, психоэмоциональные и финансовые трудности одинокой беженской жизни), могло быть получено.
Внутрисемейные проблемы, обострившиеся в условиях беженского существования, не оставались без внимания Церкви. Русская эмиграция при построении приходской жизни за рубежом столкнулась с новыми вызовами, в том числе, без преувеличения, с кризисом института семьи. Точка зрения высшего органа управления Русской православной зарубежной церкви Архиерейского Синода и его главы митрополита Антония (Храповицкого) на данный общественный вызов состояла в том, чтобы оставаться верными вековым каноническим нормам Древней Церкви и в то же время оказывать максимально полную духовную и материальную помощь в тех случаях, когда это было возможно.
Еще одной важной проблемой, представленной в письмах мирян к Архиерейскому Синоду, была календарная реформа и ее влияние на церковную жизнь. В начале ХХ в. принятие нового («григорианского») стиля некоторыми православными церквями вызвало в них расколы. Сегодня юлианский календарь сохранился в четырех поместных православных церквях: Иерусалимской, Сербской, Русской (включая зарубежную) и Грузинской. Григорианскому календарю следуют Финляндская православная церковь и Эстонская апостольская православная церковь, находящиеся в юрисдикции Константинопольского патриархата4.
В письме 1/14 августа 1934 г. в Архиерейский Синод от прихожанки Софии Соболевой, проживавшей в Финляндии, была поднята важная тема проведенной в стране календарной реформы и возникших в связи с переходом на новый стиль трудностей духовной жизни. Изменения были болезненно восприняты подавляющим большинством верующих, принадлежащих к русской православной традиции (Хмыров, 2018). Прихожанка пишет: «Желая пребывать истинными чадами православной церкви, мы с введением в Финляндии нового стиля решительно не знаем, как поступать. Признавая ст[арый] стиль за правильный и соблюдая его в своей жизни, мы для исполнения треб принуждены обращаться к новостильным священникам <…>»1. Разность календарей вносила разнобой в гражданскую и церковную жизнь верующих, поскольку религиозные праздники часто приходились на рабочие дни. Помимо того, важнейшей проблемой было духовное окормление у так называемых новостильных священнослужителей. По словам Софии Соболевой, на территории Выборгской губернии находился лишь один священник, придерживавшийся старого стиля, служивший в самом г. Выборге и никуда из него не отлучавшийся. В связи с этим верующие, проживавшие вне города, вынуждены были окормляться у новостильных пастырей, чтобы иметь единственную оставшуюся для них возможность участия в богослужениях, таинствах и обрядах – причастии, исповеди, крещении, соборовании, браковенчании и отпевании умерших.
Финляндия, в отличие от Российской империи, жила по григорианскому календарю, и лютеранские праздники считались государственными. На протяжении всего XIX в. часто возникали недоразумения с православным населением княжества, которое соблюдало церковные праздники по юлианскому календарю и тем нарушало финляндский государственный закон. Местные власти штрафовали тех православных, которые позволяли себе работать в праздники лютеранские. В начале 1918 г. часть православных приходов Финляндии благополучно перешла на новый стиль, но в приграничных районах значительная часть населения восстала против этого.
Как полагает современная исследовательница Т.И. Шевченко, «в 1920-е гг. календарный вопрос явился своеобразной кульминацией всех сложностей церковной жизни в Финляндии»2. Эти актуальные проблемы стали следствием непростой историко-политической обстановки рубежа веков. Представителям православной эмиграции (и лицам, оказавшимся в сходной ситуации, как, например, монахам Валаамского монастыря), пришлось искать принципиально новые мировоззренческие решения в труднейших обстоятельствах.
В среде духовенства и монашествующих противостояние сторонников обоих календарей доходило до взаимных обвинений в вероотступничестве и потере благодати. «Между тем от монахов, живущих при монастырях и не принявших нового стиля, мы слышали, что поступаем неправильно, что духовенство, служащее по новому стилю, впало в ересь, а с еретиками не должно быть молитвенного общения», – описывала ситуацию София Соболева3.
Православные верующие были поставлены перед сложной дилеммой. С одной стороны, в случае отступления новостильного духовенства от чистоты православия, возникал целый ряд неразрешимых вопросов: каким образом посещать богослужения в старостильных монастырях, доступ в которые был ограничен, как проводить духовную жизнь вне церкви, без духовного окорм-ления, как воспитывать своих детей? С другой стороны, существовал более мягкий взгляд на происходящее. Переход на новый стиль был осуществлен с благословения Константинопольского патриарха, вопрос об отпадении Финляндской церкви в ересь не стоял, и более умеренные священники, а также часть монастырской братии справедливо утверждали, что нововведение не касалось догматического учения православной церкви. Русские беженцы особенно беспокоились о духовном просвещении своих детей, которые только в школе из уст новостильного служителя могли впервые услышать о Боге. Отказ от такого священника означал избежание единственной возможности приобщить детей к православной духовной традиции. В связи с перечисленным комплексом проблем верующие Финляндской церкви вынуждены были обратиться к митрополиту Антонию как единственному и авторитетному источнику.
Ответ от первоиерарха поступил незамедлительно. В письме от 13/26 ноября 1934 г. он отметил, что считает введение нового стиля противоречащим всем общецерковным канонам. Особенно его порицанию подвергалось принятие новой пасхалии, «как ничем не оправдываемое нарушение св. правил»4. Митрополит Антоний предлагал в данной ситуации по возможности найти священнослужителей, не принявших новый стиль и остающихся верными Преданию Церкви, в том числе календарю. Но поскольку общецерковных правил, запрещающих прибегать к духовной помощи новостильного духовенства, принято к тому времени не было, он предлагал поступать каждому по своей совести. Главным, по его мнению, было обеспечение доступа подрастающего поколения к обучению Закону Божию, «хотя бы и у новостильников»5.
Таким образом, календарная реформа выявила в среде духовенства, монашествующих и мирян радикальное расхождение во взглядах, вызвала нравственные страдания, связанные с попыткой совместить с реалиями времени верность многолетней православной практике, собственную религиозную жизнь и духовное воспитание детей.
Проанализированные письма рядовых прихожан – российских беженцев – относятся к числу непосредственных документальных свидетельств эпохи. Поднятые в них проблемы характеризуют важные грани жизни русской церковной эмиграции первой волны. Это прежде всего вопросы материального обеспечения, тесно связанные с гражданской самоидентификацией эмигрантов, их положением в разных странах, возможностью трудоустройства и получения пособий. Такие аспекты неизбежно оказывали негативное влияние на семейные и родственные связи, не только в бытовом, но и в духовном отношении. Русская зарубежная церковь в этой ситуации представляла собой объединяющий центр в жизни эмигрантов, помогая сохранять связь с родиной, стремясь обеспечить мировоззренческую устойчивость, поддерживая культурные традиции, давая надежду на будущее, а также оказывая посильную материальную помощь. Многочисленные примеры духовной стойкости и преодоления трудностей ассимиляции, показанные представителями русской православной эмиграции в 1930-е гг., и сегодня могут служить образцом социальной адаптации и построения церковно-приходской жизни в различных странах за пределами России.
Список литературы Социально-экономическая и религиозная проблематика в обращениях российских эмигрантов в Архиерейский Синод Русской зарубежной церкви в 1930-х гг. (по материалам Государственного архива Российской Федерации)
- Бочарова З.С. Российское зарубежье 1920-1930-х гг. как феномен отечественной истории. М., 2011. 303 с. EDN: SUFEVL
- Йованович М. Русская эмиграция на Балканах, 1920-1940. М., 2005. 487 с.
- Хмыров Д.В. Бракоразводные дела в ведении РПЦЗ (20-е годы ХХ века) // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Т. 16, № 4. С. 275-282. EDN: TMLZHR
- Хмыров Д.В. Обсуждение календарной реформы в Русской зарубежной церкви: богословие и математика (по материалам журнала "Церковные ведомости") // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской духовной академии. 2018. № 1 (1). С. 36-40. EDN: YVDKNR
- Buchenau K. Auf Russischen Spuren. Orthodoxe Antiwestler in Serbien, 1850-1945. Wiesbaden, 2011. 519 s. 10.2307/j.ctvbd8mns. (на нем. яз.). DOI: 10.2307/j.ctvbd8mns.(