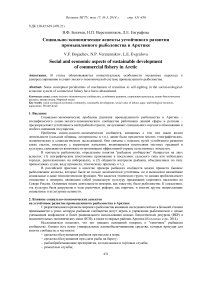Социально-экономические аспекты устойчивого развития промышленного рыболовства в Арктике
Автор: Богачев Виктор Фомич, Веретенников Николай Павлович, Евграфова Лидия Евгеньевна
Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu
Статья в выпуске: 3 т.17, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновываются концептуальные особенности механизма перехода к саморегулированию в социо-эколого-экономической системе промышленного рыболовства.
Социо-эколого-экономическое сообщество, устойчивое развитие, социальная цена труда, водно-биологические ресурсы, аквакультура, мировой океан
Короткий адрес: https://sciup.org/14294709
IDR: 14294709
Текст научной статьи Социально-экономические аспекты устойчивого развития промышленного рыболовства в Арктике
Социально-экономические проблемы развития промышленного рыболовства в Арктике – специфического социо-эколого-экономического сообщества работников данной сферы и региона – предопределяют устойчивость всей рыбной отрасли, заслуживают специального научного обоснования и особого внимания государства.
Проблемы социо-эколого-экономических сообществ, связанных с тем или иным видом деятельности (сельские общины, леспромхозы и т.п.), давно были предметом многих этнографических, экономических и социологических исследований. Они связаны с поиском путей устойчивого развития таких систем, поскольку с коренными жителями, являющимися носителями местных традиций и культуры, связываются возможности организации эффективной охраны естественных экосистем.
В контексте рыболовства, определение понятия "рыбацкое сообщество" базируется на двух аспектах: (1) географическом (постоянное проживание в поселениях сельского типа или небольших городах, расположенных на побережьях), и (2) общности интересов рыбаков, объединенных по типу промысловых судов, виду промысла, этническому признаку и т.д.
В российской практике в качестве примера рыбацких сообществ можно привести бывшие рыболовецкие колхозы, которые были не только экономически устойчивы, но и выполняли важнейшие социальные и даже геополитические функции. Что касается этнических групп, то данная проблема имеет отношение к поморам, являющим собой уникальную культуру проживания коренного населения на Севере России. Основным видом деятельности поморов, как известно, было рыболовство. К сожалению, эта культура была разрушена в ходе рыночных реформ, как впрочем, и многие другие непреходящие социальные и культурные ценности.
2. Влияние социально-экономических аспектовна устойчивое развитие промышленного рыболовства в Арктике
С разрастающимся кризисом мирового рыболовства внимание исследователей все в большей степени приковывается к роли, которую рыбацкие сообщества могут играть в управлении рыболовством с целью уменьшения конфликтов и более рационального использования водных биологических ресурсов (ВБР) в исключительных экономических зонах (ИЭЗ), а также в спорных районах Арктики ( Козьменко и др ., 2014).
Исследователи полагают, что нет никаких оснований говорить о "типичном" рыбацком сообществе. Однако есть некие универсальные жизнеобеспечивающие средства, которые присущи для многих сообществ, в частности:
-
средства обслуживания рыбаков при выходе в море;
-
средства обслуживания при сдаче рыбы на берегу;
-
рыбообрабатывающие предприятия, холодильники и торговые службы;
-
ремонтные службы;
-
- экономическая деятельность, не связанная с рыболовством (сельское хозяйство, туризм и т.п.); общественные, социальные и культурные учреждения: школы, клубы, поликлиники и больницы, почта, церкви и т.д.;
-
- муниципальные службы;
-
- общая коммунальная инфраструктура: дороги, электросети, водопроводы, коллекторы и т.п.
Приведенный перечень характеризует особенности рыбацких сообществ, которые, по мнению исследователей, и должны быть изучены на предмет взаимосвязи указанных служб с системой устойчивого рыболовства. Важно понять, почему люди продолжают жить в вымирающих прибрежных поселениях на окраинах России: по сознательному выбору, привязанности к своей профессии или потому, что у них нет иной альтернативы для существования. Аналогичные вопросы задаются и в развитых странах, где, казалось бы, кризис в рыболовстве не носит столь разрушительного характера, как в России. Если эти вопросы возникают и постоянно обсуждаются, следовательно, они злободневны, и на них должны быть найдены ответы.
Цели и задачи изолированных рыбацких сообществ, где практически нет альтернатив для занятия другими видами деятельности, могут отличаться от целей и задач тех сообществ, где существуют альтернативы трудоустройства. Для первых - цель обеспечения средств к нормальному существованию, т.е. занятость, приносящая необходимые доходы, является самой приоритетной среди других целей рыболовства, ибо стабильный улов и доходы становятся движителем всей прибрежной экономики. С экономической точки зрения, это имеет отношение к проблеме "социальной цены труда" рыбака, при определении которой возникают вопросы, стоит ли сохранять на промысле и трудоустраивать в сообществе, к примеру, рыбака, имеющего проблемы со здоровьем или совершившего преступление и т.д. Ведь при этом социальные затраты могут повыситься, а социальная цена труда стать отрицательной, тогда как труд каждого рыбака и его занятость должны приносить пользу сообществу.
В решении проблемы повышения устойчивости рыбацких сообществ большое внимание уделяется семьям рыбаков и привлечению членов семей к участию в обслуживании изолированных сообществ: решение организационных, финансовых, бухгалтерских, торгово-снабженческих вопросов. Считается, что женские организации в рыбацких сообществах могут активно защищать интересы рыбаков. Существуют даже исследования, подтверждающие, что доходы изолированных рыбацких сообществ бывают выше в тех случаях, когда роль посредников по продаже морепродуктов передается в руки жен рыбаков, а не искателей спекулятивных доходов.
Вместе с тем, проблемы жизнедеятельности изолированных рыбацких сообществ следует рассматривать в рамках более широкой социо-эколого-экономической окружающей среды с учетом геополитических и экономических тенденций регионального присутствия России в этом регионе ( Козьменко, Щеголькова, 2010; Козьменко, 2011).
Это поможет выявить различие между "частными " решениями, принятыми членами конкретного рыбацкого сообщества, и интересами рыбацкого сообщества в целом и в итоге выработать политику, удовлетворяющую и рыбаков, и общество.
Для создания комфортных условий жизнедеятельности рыбацких сообществ следует исключить законодательные шаблоны и выстраивать правовые нормы с учетом конкретных условий организации и ведения промысла, а также существующих социальных потребностей. Поэтому так важны серьезные научные обоснования особенностей обеспечения социальной устойчивости рыбацких сообществ в разных промысловых бассейнах.
В исследованиях по социо-эколого-экономическим проблемам рыболовства, которые ведутся в странах, где рыболовство играет важную роль в экономике (Канада, Норвегия, Исландия и др. страны), среди основных причин нарастания проявлений системного кризиса рыболовства в ИЭЗ называется исключение политиками рыбацкого сообщества из процесса формирования правил работы в новых правовых условиях. Рыбаки получили спущенные сверху нормы, которые не соответствовали особенностям ведения рыбных промыслов и представлениям большинства из них о справедливом распределении ограниченных ресурсов. Сам же процесс нормотворчества воспринимается рыбаками как эгоистическая потребность контролирующих структур перераспределить в свою пользу доходы от промысла, прежде всего промысловую ренту.
Из-за расхождения взглядов на цели рыболовства у рыбаков и управленцев появилась и новая форма конфликтов - "рыбаки против правительства, чиновников и контролирующих служб". Управленцы, пытаясь сгладить недовольство рыбаков, все чаще стали применять приемы, не соответствующие целям охраны ВБР: завышение научно обоснованных ОДУ, отказ от услуг слишком строптивых экспертов и т.п. Во многих бассейнах мирового рыболовства процесс согласования ОДУ все больше приобретает политическую и экономическую подоплеку при игнорировании рекомендаций ученых и требований предосторожности. Превышение рекомендаций науки происходит на фоне тенденции роста депрессии нерестового стада трески, запас которой уменьшился за десятилетие в три раза. По мнению норвежских ихтиологов, величины согласованных ОДУ трески после 1998 г., как правило, на 50-100 % превышают научно обоснованные объемы (400 тыс. т против 110-260 тыс. т).
Другой способ преодоления конфликта "рыбаки – правительство" – создание консультативных советов при правительстве и на уровне промысловых бассейнов, предназначение которых состоит в обсуждении нововведений с рыбаками до их внедрения. Однако эти консультации во многом носят формальный характер, т.к. к ним привлекаются в основном представители крупного бизнеса, а интересы других заинтересованных сторон, как правило, игнорируются.
3. Проблемы и тенденции устойчивого развития промышленного рыболовства
Российское рыболовство, если учитывать общие запасы ВБР в ИЭЗ, общую стоимость основных фондов, объемные показатели уловов и выпуска товарной продукции, численность занятых в рыбохозяйственном комплексе, можно считать правопреемником советского рыболовства. При дележе совокупного богатства, имеющего отношение к рыбохозяйственной деятельности, Россия получила не менее 9/10 того, чем обладал СССР. России к тому же достались наиболее квалифицированные управленческие, научные и технические кадры, с помощью которых советское рыболовство и добилось столь выдающихся успехов в освоении биоресурсов Мирового океана.
Освоение Мирового океана советскими рыбаками после Второй мировой войны было впечатляющим по научным и технико-экономическим параметрам. Инерция военного потенциала, набравшего огромную мощь за годы войны, позволила СССР стать первым не только в завоевании космического, но и океанического пространства. Уже в 1960-х гг. советский флот присутствовал в самых продуктивных зонах прибрежных морей всех континентов. К началу перестройки экономики СССР был лидером мирового рыболовства, попеременно деля с Японией первое и второе места по объемам вылова.
Вряд ли можно назвать другую отрасль, которая развивалась бы столь быстрыми темпами. За треть века уловы океанической рыбы возросли в 8 раз, с 1,3 млн в среднем за 1946-1950 гг. до 10,4 млн т за период 1981-1991 гг. Это почти вдвое опережало темпы роста мирового рыболовства, объемы которого за тот же период увеличились примерно в 4,5 раза.
Такая динамика развития стала возможной благодаря целенаправленной политике государства. С ростом флота развивалась и береговая база (порты, судоремонтные заводы, специализированные транспортные средства, холодильники, обрабатывающие предприятия), которые могли обеспечивать переработку сырья в широкий ассортимент готовой продукции по потребностям областей, краев и республик СССР.
Изменение международно-правового режима использования ВБР в Мировом океане в 1982 г. самым негативным образом сказалось на экономических результатах советского рыболовства, т.к. за право промысла вблизи чужих берегов надо было платить или оказывать прибрежным государствам иные услуги. Наряду с этим США, Япония, Норвегия и другие страны всеми способами стали ограничить доступ отечественному флоту к ресурсам Мирового океана.
Необходимость оплаты права пользования ВБР в ИЭЗ других государств привела к снижению эффективности промысла именно в тот период, когда начали сказываться серьезные структурные перекосы и ошибки в стратегии развития отрасли, заключавшиеся в недооценке необходимости развития прибрежного рыболовства, береговой рыбообработки и иной инфраструктуры. В советский период львиная доля капитальных вложений направлялась на развитие рыболовства вдали от собственных берегов. Индустриализация береговой базы значительно отставала от темпов развития флота и роста уловов. Поэтому к началу перестройки экономики в структуре основных фондов отрасли преобладали достаточно изношенные океанические суда, не приспособленные для ведения промысла в собственной ИЭЗ, а также отсутствовали финансовые ресурсы, которые можно было бы использовать для модернизации промыслового флота, как составляющей инфраструктурного и коммуникационного потенциала Арктики ( Башмакова и др ., 2013). Модернизация промыслового флота проводится в рамках стратегии развития российского флота в пределах существующих (до 2020 и 2030 гг.) горизонтов планирования, для этого имеются реальные основания, обоснованные в ( Богачев и др. , 2014).
И все же из трудной ситуации можно было найти выход. Ведь под российскую юрисдикцию перешли не только самые большие по суммарной акватории ИЭЗ, но и зоны наиболее продуктивных морей: Баренцева, Берингова и Охотского. При разумной государственной политике, включающей налоговые и кредитные льготы и т.п., рациональное использование ВБР в ИЭЗ России позволяло создать капитал, достаточный не только для модернизации флота соответственно новым правовым реалиям, но также и для развития аква- и марикультуры, поскольку морской промысел вплоть до 1992 г. был рентабелен.
К сожалению, российское рыболовство, не найдя выхода из-под пресса одних перемен, попало в тиски других. По своим последствиям рыночные преобразования образца 1992 г. для отечественного рыболовства оказались более разрушительными, чем передел зон влияния в Мировом океане. Об этом, прежде всего, можно судить по динамике уловов, которая свидетельствует о том, что вылов рыбы в морях сократился с 7,8 млн т в 1990 г. до рекордно низкого уровня 2,96 млн т в 2004 г., т.е. в 2,6 раза, и сохранился на этом же уровне в 2005-2006 гг.
Российский флот практически покинул открытые зоны Мирового океана, а промысел в ИЭЗ других государств уменьшился более чем в 2 раза. По сравнению с 1990 г. почти вдвое снизился и вылов в собственной ИЭЗ, а производство аквакультуры сократилось в три раза, т.е. по объемным показателям отечественное рыболовство в результате рыночных реформ оказалось откинутым на тридцать лет назад. Так сказались геоэкономические особенности развития промышленного рыболовства и формирования региональной морской политики России в Арктике ( Козьменко и др ., 2012).
Однако перемены в мировом рыболовстве коснулись и других стран; так, динамика уловов в лидирующей восьмерке (Япония, Россия, Китай, США, Чили, Перу, Индия и Индонезия) свидетельствует о том, что в самом начале передела промысловых зон Мирового океана (1985 г.) на эти страны приходилось 54 % мирового улова (40 из 74 млн т). Тогда лидировали Япония и Россия. В 2002 г. на восьмерку приходилось уже 60 % мирового улова (50,5 из 84,5 млн т). Что касается России, то она из бесспорного лидера к 2005 г. переместилась на восьмую позицию, пропустив вперед США, Индию, Индонезию и другие страны. Исключение в лидирующей восьмерке занимает Япония, так же, как и Россия, снизившая уловы за рассматриваемый период (с 10,7 млн т в 1985 г. до 4,2 млн в 2005 г.).
Но это объясняется не только тем, что выросли затраты на содержание экспедиционного промысла из-за необходимости оплачивать право лова в ИЭЗ других государств, а также вследствие постоянного роста затрат на ГСМ. Не менее важной причиной свертывания японского промысла является и открывшаяся возможность скупать у России рыбу-сырец по демпинговым ценам. Благодаря этому, Япония стала крупнейшим импортером рыбной продукции (19 % мирового импорта). Собственные же инвестиции она предпочитает вкладывать в аква- и марикультуру, объем производства которой достиг в 2005 г. 1,4 млн т, тогда как в России за рассматриваемый период он сократился в три раза и составил в 2005 г. всего лишь 0,1 млн т.
Разительным контрастом положению отечественного рыболовства могут быть успехи Китая, который, начав рыночные реформы вместе с Россией, сумел достичь беспрецедентных темпов роста ВВП, поскольку проявил политический прагматизм для завоевания устойчивых позиций в Мировом океане. За 1985-2005 гг. Китай сумел повысить свои уловы в 4 раза (17,4 млн т против 4,2), а вместе с аквакультурой (без учета водорослей) они возросли более чем в 7 раз.
Так что и российские рыбаки могли сохранить свои позиции в рыболовстве, если бы государство проявило заботу о них по аналогии с другими странами, а также стремилось выполнить важнейший социальный заказ – обеспечение продовольственной безопасности и здоровья населения страны. Тем более, что потенциально возможный улов рыбы и нерыбных объектов в ИЭЗ России оценивается в 5-6 млн т. В долгосрочной же перспективе, которая включает развитие аквакультуры и возвращение отечественных рыбаков в Мировой океан, общий улов России может вернуться на исходные позиции и составить 7,3-7,7 млн т. Однако выполнение задачи роста уловов весьма проблематично, т.к. государственная поддержка ее за годы реформ, не в пример другим странам, сократилась более чем в 4 раза, и, начиная с 1995 г., полностью исчезла возможность получения льготных инвестиционных кредитов на рыбохозяйственную деятельность внутри страны.
Об общем упадке отрасли свидетельствуют не только объемные показатели, но и динамика показателей экономической эффективности; таких, как рентабельность промысла, рост задолженности, наличие оборотных средств, моральное и физическое старение основных фондов, а также изменение в худшую сторону социальных индикаторов: уровня безработицы, среднедушевого потребления рыбопродуктов населением и т.д. Так, промысел из рентабельного (+19, +37 % в 1990-91 гг.) стал убыточным (–8 % в 2003 г.). Практически весь промысловый флот был передан в частные руки, многие вспомогательные суда за бесценок проданы новыми владельцами за рубеж, чем была разрушена технологическая взаимосвязь судов на промысле. Возраст половины из оставшихся судов сегодня приблизился к 20 годам, а 9/10 их общей численности попадает в группу службы "10 и более лет".
Резкий одномоментный рост цен на ГСМ и высокие ставки за кредиты привели к тому, что за рубеж мгновенно переместились самые рентабельные части рыбохозяйственного комплекса (переработка рыбы, обслуживание флота, судоремонт и т.д.). Благодаря этому в соседних странах были созданы десятки тысяч новых рабочих мест. В России же в результате свертывания производства численность работающих в рыбной отрасли за годы реформ сократилась более чем на 190 тыс. человек. Имеет смысл напомнить, что, по расчетам экспертов, если Россия наконец-то поставит цель восстанавливать отрасль, то создание одного рабочего места на флоте ей обойдется в 140-250 тыс. долл. США, а на береговых предприятиях – от 2 до 40 тыс.
На начало 2006 г. уровень зарегистрированной безработицы по рыбохозяйственному комплексу составил 3,5 % (что в 2,1 раза выше, чем в целом по России), а общей – 10,8 % (на 42 % выше среднероссийского уровня). При общей численности занятых в отрасли 362 тыс. человек число безработных составляет около 62 тыс. чел. В отдельных регионах, к примеру, в Мурманской и Магаданской областях, общий уровень безработицы превышает общероссийский в 1,5-2 и более раз (Кибиткин, Смирнова, 2011).
Об упадке отрасли свидетельствует и уровень использования бывших береговых мощностей, которых в советский период явно недоставало для переработки уловов. Сегодня же сохранившиеся холодильники, морозильники, консервное производство по сравнению с 1990 г. используются только на треть; коптильни – на 11 %, кулинарное производство на 7,9 %, рыбомучное – на 2,7 %. Такое положение дел вызвано сокращением объемов поставок сырья, плохим техническим состоянием мощностей (пришли в негодность, морально устарели, не приспособлены для новых объектов промысла) и отсутствием у предприятий оборотных средств. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рыбохозяйственного комплекса в 2009 г. был на 60 % ниже его нормативного значения, что полностью исключает воспроизводственные возможности.
За первое десятилетие реформ в рыбном секторе более чем в 10 раз сократился ежегодный уровень инвестиций в основные производственные фонды, при том что общий объем инвестиций в экономике России за тот же период снизился в 4 раза. Сокращение инвестиций в рыбной отрасли происходит в условиях запредельного уровня физического и морального износа основных фондов, в первую очередь флота. Причинами катастрофического спада инвестиционной активности стали: высокий уровень инфляции, повысивший степень риска потерь от капитальных вложений; обесценивание финансовых ресурсов, в т.ч. амортизационных фондов; рост цен на ГСМ, приватизация, создавшая огромное число малых предприятий, которые не в состоянии приобретать дорогостоящие основные средства, отсутствие мотивов к модернизации производства.
С 2004 г. в рыбном секторе (как и в целом по экономике), началась постепенная активизация инвестиционных процессов. Но хотя объем инвестиций в отрасль в сопоставимых ценах в 2006 г. вырос почти в 2 раза по сравнению с минимальными значениями 2002-2003 гг., все же он был в 8,4 раза ниже их объема в 1991 г. В настоящее время темпы роста вложений в АПК, в состав которого входит рыбный сектор, значительно отстают от других секторов экономики. К тому же по показателю инвестиционной активности рыбный сектор является аутсайдером среди других секторов АПК.
Одним из самых негативных последствий реформ стало резкое снижение среднедушевого потребления животных белков. С 1992 г. уровень потребления мясных продуктов в России оказался отброшенным к 1980 г., рыбных – к 1960 г. При рекомендуемой медиками норме потребления рыбопродуктов в 23 кг в год на душу населения, этот показатель в настоящее время составляет 12 кг, что в 2 раза ниже уровня 1985 г. И это при том, что в среднем на жителя планеты приходится в год 15 кг рыбопродуктов. Каждый норвежец, датчанин, француз, канадец и американец потребляет рыбы до 25 кг в год, а в Японии и Исландии – 65-70 кг рыбы в год. К тому же среднедушевое потребление мясных продуктов в развитых странах в 2,6 раза больше, чем в России.
По уровню потребления рыбопродуктов в первую очередь пострадали центральные регионы страны; "плечо" перевозки сырья в которые достигает нескольких тыс. км. Отсутствуют и мощности для транспортировки сырья к местам переработки. По этой причине примерно четверть улова лососей, сельди, сайры, кильки вообще не доходит до переработки, а седьмая часть не соответствует нормативам по качеству.
Принимая во внимание высокие пищевые и лечебные свойства рыбопродуктов, сложившееся положение дел можно классифицировать как серьезный изъян социальной политики. В бывшем СССР придавалось большое значение проблеме роста уровня среднедушевого потребления рыбы. Рыбопродукты относилась к наиболее доступным продуктам питания, т.к. государство поддерживало низкий уровень цен на них и вело протекционистскую политику в отношении рыболовства. Сегодня же ценная по медицинским свойствам рыба заменена небезопасными для здоровья куриными окорочками, поставляемыми из США, и столь же сомнительного качества мясопродуктами из других стран. Резко снизилось финансирование рыбохозяйственных научных исследований, а также участие наших ученых в международных исследовательских проектах, что ведет к дальнейшему вытеснению российского промысла из Мирового океана.
4. Заключение
Таким образом, анализ социальных проблем устойчивости позволяет сделать вывод, что устойчивое развитие системы рыболовства возможно только в случае, если у всех групп рыбаков будет восстановлено доверие к государственной системе управления пользованием ВБР. Для этого следует обеспечить оптимальный баланс двух во многом взаимоисключающих целей: достижение экономической эффективности промысла и справедливости при распределении ВБР (т.е. соблюдение этических норм). Названные цели найдут отражение в политике рыболовства только в том случае, если ключевое звено этой политики – управление пользованием ВБР – примет характер саморегулирования и совместного управления или cоуправления (co-management), институциональные особенности которого все больше привлекают внимание зарубежных исследователей. Анализ публикаций в этом плане позволил авторам сформировать концептуальные особенности механизмов перехода к саморегулированию и участию в управлении рыболовством