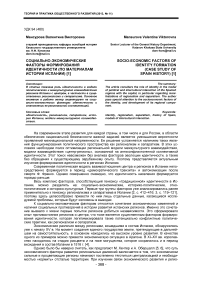Социально-экономические факторы формирования идентичности (по материалам истории Испании)
Автор: Мансурова Валентина Викторовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье показана роль идентичности в модели политического и межкультурного взаимодействия регионов Испании с центром, в частности в существовании регионализма и сепаратизма. Основное внимание в работе автор акцентирует на социально-экономических факторах идентичности и становлении ее региональной составляющей.
Идентичность, регионализм, сепаратизм, история испании, модели межкультурного взаимодействия
Короткий адрес: https://sciup.org/14934970
IDR: 14934970 | УДК: 94
Текст научной статьи Социально-экономические факторы формирования идентичности (по материалам истории Испании)
На современном этапе развития для каждой страны, в том числе и для России, в области обеспечения национальной безопасности важной задачей является уменьшение вероятности проявлений межнациональной напряженности. Ее решение усложняется наличием таких явлений функционирования политического пространства как регионализм и сепаратизм. В этих условиях необходим поиск оптимизации региональной модели межкультурного взаимодействия, модели взаимодействия «центр-регионы», основанной на антиконфликтогенной коллективной идентичности. Этот поиск невозможен без анализа факторов эволюции идентичности, а также без обращения к существующему зарубежному опыту. Поэтому представляется актуальным изучение формирования идентичности в регионах Испании.
Современная политическая модель взаимоотношения центра и регионов в Испании непосредственно формируется в период «демократического транзита» и автономизации после смерти Ф. Франко. Однако совершенно очевидно, что идентичность населения формируется гораздо раньше.
Весь комплекс факторов, способствующий генезису «традиционной» идентичности в Испании, можно разделить на: социально-экономические, историко-политические, этнополитические и историко-культурные. Первые три группы факторов уже анализировались ранее применительно к генезису регионализма и сепаратизма в Испании [2, с. 412–416; 3, с. 119–121], поэтому здесь целесообразно привести по ним лишь отдельные данные, касающиеся исследуемой проблемы, которые будут изложены в выводах.
К социально-экономическим факторам относятся сочетание экономических изменений и наличия социальных противоречий в истории развития испанских регионов. Именно это сочетание вызвало к жизни первые попытки регионов добиться независимости. Это сформировало опыт противостояния регионов и центра, что тоже является существенным фактором формирования идентичности, которая легитимизировала такие потенциально конфликтные политические практики, как регионализм и сепаратизм.
Экономические различия между регионами, вошедшими в состав Испании, обнаружились уже к началу XV в. На момент создания единого государства земли, претендующие в дальнейшем на самостоятельность, в основном находились на высоком уровне развития. В качестве одного из примеров можно привести экономическую ситуацию в Арагоне. В XI–XV вв. королевство находилось на стадии расцвета и на пике могущества, которое сохранилось и в период вхождения в состав Испании в 1516 г. [4].
Однако было бы неверно считать, как предлагают М. Хечтер и А. Обершалл [5; 6], что суть экономического фактора развития региональных движений заключается в том, что экономически сильные и процветающие регионы начинают постепенно тяготиться централизацией и необходимостью «кормить» отсталые территории. При изучении связи экономического развития и регио- нализма, сепаратизма, становится очевидным, что последний может проявляться и в отсталых регионах. Представляется, что при анализе экономического фактора нужно учитывать не статистические показатели уровня развития, а наличие изменений в экономике. Кроме того экономическая трансформация становится действительным фактором, создающим условия для формирования регионализма и региональной идентичности, только в сочетании с социальными проявлениями, такими как миграции, социальные или этно-конфессиональные противоречия и т.д.
Например, Каталония дважды в XV в. и в XVII в. предпринимала реальные попытки создания самостоятельных государств. Происходило это в условиях, которые можно считать типичными для данного периода развития Испании, так как они наблюдаются и в других регионах.
В Каталонии со второй четверти XIV в. начинается экономический спад и увеличивается социальная напряженность. Эти социально-экономические сдвиги вылились в восстание крестьян-ременсов 1462 г. Итогом этого стало дарование королем Альфонсо V прав для ременсов создать гильдию, выкупаться на свободу и т.д. Но знать не устроило такое решение. Началась гражданская война, усугубившаяся противостоянием королевской власти и местной знати. Попытка мирно урегулировать конфликт не увенчалась успехом, и противостояние перешло в вооруженную стадию.
Проблемы, ставшие причинами этого восстания, так и не были до конца решены: усугубление экономического упадка, приводящего к разорению крестьян, и увеличения степени зависимости крестьян от землевладельцев, то есть социальный конфликт. В результате в 1485 г. началось новое крестьянское восстание на фоне непрекращавшегося противостояния центральных и местных властей. Именно в этот период местные власти при поддержке населения начинают говорить о независимости и даже демонстрировать ее, приглашая на престол Каталонии правителей в обход центральной власти [7; 8].
Затем в 1640 г. произошло Сегадорское восстание на фоне конфликта центра и региона и ухудшения экономического положения, – что привело к попытке создания независимой Каталонской республики [9, с. 15–21].
В период 1830–1980 гг. социально-экономический фактор продолжал оставаться важной составляющей формирования идентичности в Испании. При этом он по своему содержанию значительно расширился. Кроме его традиционных составляющих добавляются внутренняя миграция, демографическая ситуация, региональная диспропорция в экономике и другое.
Отправной точкой для нового этапа экономического развития можно считать 30–40-е гг. XIX в., когда после революции были изданы законы, направленные на национализацию отдельных сфер, секуляризацию церковных земель и введение их в экономический оборот и другое. Это совпало с началом промышленного переворота, развитием добывающей, тяжелой и легкой промышленности, складыванием транспортной сети. В частности в 1848 г. была построена первая железная дорога [10, с. 125–211].
Экономическая модернизация, а также трансформация экономики некоторых традиционных аграрных областей привела к увеличению диспропорции в экономическом развитии регионов. Как результат этих процессов во второй половине XIX в. выделился так называемый «треугольник богатства» (Мадрид-Каталония-Эускади), регионы среднего достатка (Аструрия и другие) и периферия (Галисия, Андалусия и другие). Это обозначило и линию противоречий между центром и регионами, так как кроме Мадрида, остальные территории центра оказались в традиционной аграрной зоне с сохраняющимися пережитками, а регионы – в зоне активной модернизации, которая заставляла их добиваться широких социально-экономических преобразований. Эти требования в силу специфики ситуации часто приобретали политический и региональный оттенки. Но они довольно долго не признавался в центре. И попытки решить указанные вопросы не связывались с проблемами регионов. Конституции 1812 г., 1834 г., 1837 г.,1845 г., 1869 г., 1876 г. вообще не содержали пунктов о региональных вопросах [11, c. 5–143].
Затем последовал период экономического спада, начавшегося с революции 1854–1856 гг. Особенно разрушительны были последствия Гражданской войны 1936–1939 гг. Р. Тамамес указывает, что уровень производства в сельском хозяйстве составил 21 % от довоенного, в промышленности – 31 %. В большинстве населенных пунктов половина зданий и сооружений была разрушена или уничтожена. Доходы населения упали до уровня начала века [12, с. 153]. Смерть от голода была обычным явлением.
1960–70-е гг. стали периодом глобальных социально-экономических преобразований, трансформации традиционного и формирования нового, городского образа жизни, складывания общеиспанской экономики, рынка и инфраструктуры. Но многоукладный характер экономики не удалось ликвидировать, подлинно промышленными были только отдельные регионы, при этом сохранялась и огромная разница между территориями в уровне их развития и благосостояния их граждан. То есть индустриализация государства не ликвидировала, а наоборот усиливала региональные диспропорции, что, безусловно, являлось дифференцирующим фактором развития. На этой почве массовому сознанию в регионах присуще соперничество, взаимная неприязнь и т.д. Х. Тусель приводит такой пример: «каталонцы ощущают себя благородными донорами по отношению к остальным испанцам, а жители других регионов видят в них настоящих вампиров» [13, с. 131].
Флуктуации в экономике порождали внутренние миграции. Так в середине XIX в. привлекательными для переселенцев были промышленные центры. То есть в и без того развитых районах, создавались дополнительные условия для индустриализации, а отсталые регионы их еще более лишались из-за оттока населения. Долгое время направления межрегиональной миграции были неизменны, и во многом они сохраняются и сегодня. Внутри самих провинций шло перманентное переселение из деревни в город.
При этом межрегиональная миграция преобладала в периоды экономического подъема, а внутрирегиональная – в периоды спада.
На миграцию влияли не только экономические факторы, такие как разница в заработной плате в аграрном и промышленном секторах, безработица, диспропорции в спросе и предложении на рынке рабочей силы, но и социальные. Жизни в городе была более комфортной, давала надежду на их возможности повысить свой социальный статус, получить образование и т.д.
Миграции предопределили изменение социального и этнического состава населения регионов. И если на первых порах приток мигрантов только консолидировал местное население регионов и способствовал обострению национального самосознания, то затем, в состоянии перманентной миграции и необходимости сосуществовать вместе, усилился региональный компонент идентичности. При этом мигранты, приехавшие с периферии, жизнь в которой была не престижна, старались быстрее слиться с автохтонным сообществом.
Например, в Каталонии к середине XX в. в крупных городах около половины населения составляли мигранты, но каталонская культура не была размыта. Мигранты – выходцы из кастильского ареала – не только адаптировались, но и усваивали каталонский язык и даже вливались в национальное движение региона. Они быстро отказывались от собственной идентичности, так как считали ее «малопрестижной, связной с низким социальным статусом деревенского жителя» [14, c. 20].
Кроме миграций следует отметить и демографические изменения, также характеризующиеся диспропорциями расселения населения по регионам.
Именно в этих условиях закрепляются представления об идентичности, в основе которой лежит не происхождение, а приобщенность к территории и ее населению. Особенно ярко это проявилось в период франкизма, когда миграции приобрели серьезный масштаб и не контролировались. Политика правительства консервировала и радикализировала чувства региональной и национальной самобытности, не давая им проявиться в цивилизованных формах.
Таким образом, к 1976 г. Испания подошла со сложившейся идентичностью, в которой еще с XIX в. преобладала региональная составляющая, характеризующаяся двумя линиями наиболее острых конфликтов: с центром и с другими регионами. Это выражалось в усилении автономистских и сепаратистских настроений в регионах и других проявлениях конфликтности, которые имею место и в настоящее время.
Ученые, изучающие аналогичные явления в истории России и других стран, отмечают схожие тенденции влияния структуры идентичности на политические процессы. В качестве решения проблемы оптимизации региональной модели межкультурного взаимодействия и модели взаимоотношения центра и регионов, можно согласиться с выводами Ю.М. Аксютина и Е.В. Тышты, которые отмечают, что в обществе, унаследовавшем «конфликтогенность прежней коллективной идентичности, <…> единственной альтернативой мобилизации этничностей, усилению культурного партикуляризма и формированию официозной надэтничности становится гражданская общекультурная интеграция» [15, c. 20].
Ссылки и примечания:
-
1. Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (номер соглашения: 14.B37.21.0511).
-
2. Мансурова В.В. Предпосылки формирования регионализма и сепаратизма в Испании // Современные исследо
вания социальных проблем. 2011. № 4.1 (08).
-
3. Мансурова В.В. Этнический фактор развития идеологии и практики регионалистских и сепаратистских организа
ций Испании // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 12 (26).
-
4. Ubieto Arteta A. Historia de Aragón: Creación y desarrollo de la Corona de Aragón. Zaragoza, 1987.
-
5. Hechter M. Internal Colonialism. The Celtic Fringe in the British Development. 1536–1966. L., 1975; Hechter M. Group Formation and the Cultural Division of Labour // American Journal of Sociology. 1978. № 84/2. P. 293–318.
-
6. Obershall A. Social and Political Movements. Prentice-Hall, 1973.
-
7. Capdeferro M. Otra Historia de Cataluña. Barcelona, 1985.
-
8. Reglá Campistol J. Historia de Cataluña. Madrid, 1974.
-
9. Serra i Puig E. «Introducció» a La revolució catalana de 1640. Barcelona, 1991.
-
10. Comellas J.L. Historia de España Contemporánea. Madrid, 2002.
-
11. Испания. Конституция и законодательные акты / под ред. Н.Н. Разумовича. М., 1982.
-
12. Tamames R. Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo. Madrid, 2008.
-
13. Tusell J. El aznarato. El gobierno del partido popular. 1996–2003. Barcelona, 2005.
-
14. Коваль Т.Б. Две тенденции в этнической истории Испании. М., 1987. Деп. в ИНИОН АН СССР от 12.08.1989 г.
-
15. Аксютин Ю.М., Тышта Е.В. Трансформация надэтнической идентичности в условиях становления российского федерализма: региональный аспект // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Теория и практика. 2013. № 1 (27).
№ 30812.