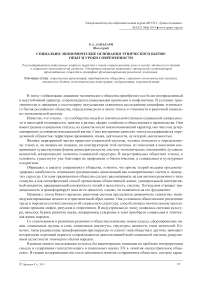Социально-экономические основания этнического бытия: опыт и уроки современности
Автор: Данакари Ричард Арами
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 5 (32), 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются актуальные вопросы перехода к новой современности, роль и место этнического бытия в социально-экономической системе. Уделяется внимание выявлению этнической составляющей транзитивных обществ и специфике функционирования рыночной экономики.
Современная цивилизация, традиционное общество, социально-экономическая система, этническое бытие, межэтническая интеграция, модернизация, маргинализация
Короткий адрес: https://sciup.org/14822115
IDR: 14822115
Текст научной статьи Социально-экономические основания этнического бытия: опыт и уроки современности
В эпоху глобализации движение человеческого общества приобретает все более неопределенный и неустойчивый характер, сопровождается социальными кризисами и конфликтами. В условиях транзитивности и движения к постмодерну актуальными становятся исследования специфики этнического бытия российского общества, определение роли и места этноса и этничности в рыночной социально-экономической системе.
Известно, что этносы – это сообщества людей со значительной степенью социальной однородности и некоторой подвижности, занятые в разных сферах хозяйства и общественного производства. Они имеют разные социальные статусы, их единство носит внеэкономический характер, оно часто не детерминировано условиями повседневной жизни. Само внутреннее единство этноса поддерживается определенной общностью территории проживания, языка, деятельности, культурой, ментальностью.
Являясь неразрывной частью природно-социальной системы, человек относится к определенному этносу и, не являясь ни творцом, ни конструктором этой системы, из поколения в поколение воспринимает существующие формы жизнедеятельности, систему экономических отношений и духовных ценностей, воспроизводит элементы социальной структуры. В индустриальных обществах этносы, в основном, существуют уже благодаря не природным и биологическим, а социальным и культурным алгоритмам.
Обращаясь к анализу современного общества, отметим, что кризис теорий модерна продемонстрировал ошибочность понимания традиционных цивилизаций как консервативных систем и замкнутых структур. Сегодня традиционное общество следует рассматривать не как антипод рыночного типа социума, а как специфический способ организации общественной жизни, универсальный интегративный механизм, превращающий совокупность людей в целостность, систему. Хотя рынок отрицает традиционность и трансформирует многие ее ценности, однако, он появляется на его фундаменте.
Начиная с эпохи Нового времени, рыночная система предложила динамичную стратегию, индивидуализированные ценности и прагматичный образ жизни. Она усложнила общественное разделение труда и породила соответствующую ей социальную структуру, способствовала значительному преодолению прежних мифов, ритуалов и стереотипов. В индустриальную эпоху появилась светская культура, началось бурное развитие науки, непрерывное ускорение и темп приобрели социальная и этническая жизнь народов.
Со становлением и развитием рыночного общества появились новые классы, сформировались нации, социальные группы и слои, социальные институты, структуры, ценности, типы личностей. Конечно, такие радикальные трансформации при переходе от одного типа общества к другому занимают исторически огромный период и сопровождаются декомпозицией всей социальной системы, разрушением целостности этнического бытия народов.
В рамках нашего исследования хотелось бы акцентировать внимание на проблеме интерпретации смысла и содержания господствующего в социальных науках ХХ в. понятия «индустриальное общество». В теории модернизации оно стало синонимом понятия «современное общество», которое харак- теризуется глобальным развитием народов мира, как переход социальных структур традиционного общества к индустриальному обществу с рыночной экономикой. Его основными характеристиками стали развитие промышленности, рост научно-технического прогресса, становление специфических социальных структур, социальных институтов, высокий статус науки и образования. Таким образом, индустриальное и постиндустриальное развитие, начинаясь как локальные и региональные технологические новации, становится неизбежной и всеобъемлющей силой, особой стратегией и включает в себя экономические, политические, социальные и духовные процессы.
Однако, по мнению Ж.Т. Тощенко, современные радикальные изменения в экономике, политике, науке, технике и социальном бытии одновременно привели к расколу, раздроблению и противоречиям в общественном сознании, в котором существуют взаимоисключающие ориентации, несовместимые между собой. Исключительность этой ситуации состоит в том, что не только общество, социальные группы и слои, но и сам человек как личность стал парадоксальным в своем сознании, представляет уникально-противоречивое явление [8].
Поэтому, рассматривая этническое бытие российского общества, следует обратить внимание на особенности современного переходного периода. Эпоха транзитивности характеризуется распадом не только социальных, но и этнических структур как целостностей, специфических единств. Если в условиях стабильности социально-этническая система функционирует относительно эффективно, способна к производству и воспроизводству общественной жизни и деятельности, то в переходный период, находясь в состоянии декомпозиции, она разрушает горизонтальные и вертикальные связи, иерархий, статусы, роли, оказывает негативное воздействие на становящиеся формы собственности. Дезорганизация социального и этнического бытия, систем управления и организации привела к появлению параллельных легальных и нелегальных, теневых структур во всех сферах.
Одним из основных отличий современного общества является принципиальная изменчивость, неустойчивость всего социально-этнического бытия, распад его структур, маргинализация различных групп населения, индивидов и этнофоров. Дальнейшая эскалация отмеченных разрушительных и негативных процессов вызывает серьезные кризисные явления в обществе, его распад, что сопровождается нарастанием стресса, шока как в общественном сознании, так и во всей культуре.
В этой связи Т.И. Заславская пишет: «Общий итог изменения социальной структуры России под влиянием институциональных реформ амбивалентен. С одной стороны, рыночные реформы заметно активизировали общество, повысили экономическую самостоятельность граждан, их ответственность за собственную судьбу. С другой стороны, способность социальной структуры интегрировать структурные элементы общества и стимулировать конструктивную активность большинства граждан, скорее, снизилась. Резко усилившийся разрыв между элитой и массовыми слоями общества еще более усилил отчуждение россиян от власти, их социальную и политическую инертность, неготовность к мобилизации для решения общих задач» [2]. Все эти факторы оказали существенное влияние и на этническое бытие общества, наложили свою печать на весь его переходный период, который представляет собой сложное переплетение социальных процессов и явлений, детерминированных как внутренними, так и внешними факторами.
Следует признать, что в обществах открытого или закрытого типа процессы социально-этнической трансформации, структурной перестройки происходят совершенно по-разному. В значительной степени они зависят от совокупности социально-экономических отношений и связей, уровня иерархической организации социума. В системе этнического бытия можно выделить несколько уровней социальных отношений: уровень формационный, базисных отношений; территориальных, социальных связей; и традиционных, семейно-бытовых отношений. Формационный уровень характеризует: во-первых, социально-экономическое положение этносов, во-вторых, степень проникновения в их среду товарно-денежной системы и, в-третьих, уровень развитости рыночных отношений.
Естественно, что рыночные механизмы полностью изменили систему экономических отношений, разрушили прежнюю структуру природопользования, хозяйства и жизнедеятельности, трансформиро- вали традиционные социальные институты, унифицировали и стандартизировали связи между индивидами. Территориальные отношения и социальные связи по-своему повлияли на систему взаимодействия государства и этноса. Они обусловили специфику организации и административного управления, определили не только экономические отношения, но и специфику проникновения рыночных отношений в хозяйственную деятельность этнофоров.
Важно отметить, что уровень традиционных, семейно-бытовых отношений тесно связан с системой экономических связей, хозяйством и жизнедеятельностью этноса. Одновременно территориальные и общинные связи влияют на демографические отношения, форму и тип семьи, отношения родства, межличностные социально-экономические и социально-бытовые связи. Как известно, именно на микроуровне, в сфере традиционных, семейно-бытовых отношений становятся и развиваются основы духовно-нравственных ценностей, формируется система этнической идентичности.
Следует обратить внимание также на то, что в системе этнического бытия основные уровни социальных отношений имманентны по своей природе. Они оказываются настолько глубокими и тесными, что носят взаимосвязанный и взаимозависимый характер. Если говорить о специфике функционирования этнической системы российского общества, то следует указать на особенности развития сложившейся в стране системы социально-экономических отношений, которая в течение нескольких веков постепенно разрушила традиционную социальную организацию всех этносов.
Если обратимся к истории России, то заметим, что в своей внутренней политике государство стремилось объединить этносы, представляющие различные культуры и цивилизации, в единую общность широкого масштаба, что всегда оказывалоопределенный прессинг на их социальную организацию. В советскую эпоху государство сформировало специфическую интернациональную целостность, интересы которой оно всегда защищало. Словом, патернализм и примат социального, общинного, коллективистского начал над индивидуальными экономическими действиями и субъектами всех уровней всегда были характерны для российской действительности [3].
В результате, исключительное первенство общегосударственного начала над интересами большого или малого этноса породило пренебрежительное отношение к их этнической специфике, традициям, основам хозяйства и жизнедеятельности. В 20–30 гг. ХХ в. Советская власть обеспечивала социальную защиту отставшим в своем развитии народам и делала многое в их интересах. Действительно, за короткое время большинство народов СССР добилось высокого уровня социально-экономического и культурного развития.
Однако со 2-й половины ХХ в. в социальном и этническом бытии советского общества стали нарастать негативные явления и кризисные тенденции. Несмотря на то, что в стране преобладающую роль играл экономический сектор, высокими темпами развивалась промышленность, многие этносы сохранили уклады традиционного и примитивного труда. В развитии этнической структуры советского общества в значительной степени наблюдались черты переходности, которые постепенно разрушали традиционные основы. Не секрет, что главным признаком стало усиление маргинализации социальных и этнических групп, что привело в перспективе к нарастанию многих кризисных явленийкак социальной организации, так и в культуре, всей духовно-нравственной сфере.
Маргинализация и постепенная криминализация традиционных и вновь образующихся социальных групп и структур стала господствующей тенденцией в обществе. Они привели к появлению огромных масс людей со специфическими интересами и ценностями, аномическими моделями поведения, действующими в различных подсистемах общества: экономике, политике, культуре и социальной сфере. Маргинализация социальной структуры способствовала появлению девиантного поведения в сфере производства и распределения, развитию черного рынка и незаконной торговли, землячества и кумовства, круговой поруки и скрытому воровству, подпольным формам досуга и туризма.
Все эти негативные процессы были характерны для всех общественных структур советского общества, как социальных, так и этнических, находящихся в состоянии и стационарности, и транзитивности. В результате сформировались различные теневые социальные и этнические группы, истинные размеры собственности и власти которых носили скрытый характер. Одновременно эти группы и их элиты ощущали острый дефицит права решать то, что они могут и должны по рангу и статусу в иерархии управления и господства.
В последней четверти прошлого столетия в СССР возникает парадоксальная картина – верхние эшелоны власти не слышат низов, а последние, в свою очередь, формально исполняют распоряжения верхов или просто игнорируют их, реализуя на местах свои собственные, эгоистические, групповые и индивидуальные интересы. Такая картина отчуждения, отсутствия взаимопонимания верхов и низов стала типичной для всех социальных структур. Она способствовала возникновению, а затем становление и развитию параллельного маргинального мира, который стал все больше компенсировать пустоты и нестыкуемость всей общественной системы, но, как уже отмечали, по своим правилам, согласно с собственными целями и ценностями.
Абсолютизация и догматизация формационной методологии с ее концепцией социально-классовой структуры не могла дать объективный анализ советского общества и определить реальные перспективы его развития. Советское общество было давно разделено на страты, социальные и этнические группы, которые удовлетворяли свои специфические интересы и потребности. Существовало и сословное деление общества. У каждого народа соотношение и пропорции сословных групп имели свою специфику, которая была обусловлена как этническими традициями, так и положением этноса в целом в системе национальных отношений. Особое место в социально-этнической структуре занимали тандемы сословий, относящихся к различным этносам. Социально-этнические группы стали различаться по правам и обязанностям, занимать противоположные позиции в системе «господство – подчинение».
Этнические структуры, в отличие от классов, слоев, страт, в которых индивиды не связаны между собой непосредственно, рассредоточены в горизонтальном социальном пространстве, представляют собой более целостные общественные образования. Связи между составляющими их индивидами скрепляются общностью территории, окружающей среды, обычаев и традиций, исторически сложившихся в процессе совместного проживания.
В условиях социального конфликта или кризиса сходство интересов индивидов, обусловленное их принадлежностью к своей этнической общности, обычно воспринимается ими более ощутимо и наглядно, чем единство интересов по классовому признаку или социальной группе. Как известно, в советскую эпоху анализ интересов этнических общностей всегда оставался в тени исследований социальноклассовых интересов. В эпоху перестройки и рыночных реформ непрерывно меняющаяся объективная реальность заставила более пристально приглядеться к этническому бытию социальной системы.
Динамизм современного российского общества и дальнейшее развитие рыночных отношений требуют более глубокого и объективного анализа противоречий, конфликтов и кризисных явлений, существующих в социальной и этнической структурах, как в вертикальном, так и горизонтальном срезах. Они необходимы для формирования адекватных представлений о состоянии социально-этнической структуры в плане продолжающейся до сих пор декомпозиции и дальнейших стратификационных изменений. Для того чтобы понять реальные пути и направления социального развития этносов, следует иметь адекватное представление о социальной структуре народов, формирующих ее новых связях и элементах. Между тем в социально-гуманитарной науке существует огромное количество концепций, не подкрепленных ни серьезными теоретическими выводами, ни результатами эмпирического анализа.
Анализ как социального, так и этнического бытия как систем показывает, что их развитие ведет не к упрощению и единообразию, как считалось ранее, а наоборот, способствует усложнению всего строения, структур, ведет к плюрализму элементов и связей. Как показывает реальная практика, в последние десятилетия появились десятки новых социальных групп и слоев, все еще продолжаются дифференцирующие явления во всей системе общественных отношений [6].Такое многообразие элементов в социально-этническом бытии предполагает, естественно, противоречивое многообразие и плюрализм общественных интересов.
Следует заметить, что, несмотря на значительный интерес общественных наук ко многим процессам, происходящим в обществе, национально-этнические особенности социальной структуры и их диалектика не стали предметом объективного и целостного анализа. Для понимания всего комплекса проблемсоциально-экономического развития актуально исследование этнической сферы общества.
Обратим внимание на диалектику взаимосвязей социального и этнического в формировании социальной структуры общества. Раньше в нашей литературе эта связь трактовалась однозначно догматически, т.к. ведущей тенденцией была социально-классовая. Не секрет, что этническое или национальное всегда представлялось как консервативное, отживающее, препятствующее преодолению классовых различий и форсированному движению советского общества к социальной однородности.
В СССР многие программы, идеи воплощались в жизнь без учета национально-этнической специфики населения различных регионов страны, что приводило к нарастанию негативных процессов, напряженности и конфликтов во многих сферах общества. Например, в советскую эпоху не удалось сформировать адекватные численности населения коренных народов российских республик национальные отряды рабочего класса и кадры интеллигенции. С другой стороны, отток населения из центральных районов России в национальные республики привел к депопуляции малых городов и деревень, породил сложные социальные, демографические и культурные проблемы.
Причины, породившие противоречия, негативные процессы, а затем и конфликты в социальноэтническом бытии народов, разнообразны, некоторые из них носят многовековой характер, остальные связаны с деформацией социальной структуры советского общества. Одной из важнейших причин является игнорирование или умаление этнического фактора в социальном развитии. Диалектика предполагает единство и взаимодействие социальных и этнических структур. Однако это формальное равноправие не исключает, что одна из них станет главной на определенном этапе общественно-исторического взаимодействия. Как мы помним, раньше ведущей и исключительной стороной в формировании социальной структуры всегда признавалось социально-классовое начало. Однако ошибочность такого догматического подхода продемонстрировала сама социальная и политическая практика. В последние десятилетия этническое превратилось в один из ведущих факторов общественно-политического и социально-экономического развития, а сам этносыстали реальным субъектом современном истории. Сегодня от их действий во многом зависит судьба модернизации во многих странах.
Анализируя специфику диалектического взаимодействия этнического и социального в жизни современного общества, можно увидеть механизмы существующих кризисных ситуаций и будущих конфликтов. Формирующийся новый тип рыночной экономикисоздает новые формы новых производственных и внеэкономических общественных отношений, детерминирует качественные изменения в социальной структуре общества, преобразует жизнедеятельность всех этносов.
Как показывает исторический опыт, в европейской части России, особенно крупных городах, возвращение к рыночной экономике, современным рыночным формам труда, не имелтого драматического характера, чем для большинства регионов страны. Даже представители многих народов, живущих в мегаполисах, стали быстрее привыкать к наступлению урбанизации, различным формам индивидуализма и отчуждения, формализации и регламентации. Наоборот, у этносов, живших на окраинах России, миновавших капиталистическую стадию развития, когда на смену их традиционным занятиям пришли современные профессии высокой технологией, интенсивностью и функциональным содержанием труда, появились серьезные проблемы. Избежав эпохи рынка в начале ХХ в., они не сформировали у себя отношение к труду как к регламентированной и формализованной деятельности. Поэтому рынок стал восприниматься как отчуждение и отождествляться с внеэкономическим принуждением. Кроме того, социальной мобильности многих коренных народов Сибири и Севера, а также национальных республик раньше препятствовали слабая миграционная подвижность, значительные вековые традиции и семейно-бытовые устои.
Все эти факторы этнического характера привели к тому, что сложилась специфическая социальная структура, характеризующаяся высокой долей рабочего класса, в основном, среди русских и дру- гих представителей славянской национальности. В национальных республиках по-прежнему высока доля сельского населения, занятого в аграрном секторе, и, вообще, людей без профессии. В то же время в этих регионах оказалась невеликой доля специалистов промышленности и сельского хозяйства из числа коренного населения, особенно инженерно-технического профиля. Таким образом, в основных регионах России, где продолжаются декомпозиционные изменения, по-прежнему существуют серьезные диспропорции в социальной структуре между коренным и некоренным населением. По мнению А.Н. Аверина, только малочисленные народы Дальнего Востока, Сибири и Севера Российской Федерации занимаются традиционными промыслами [1].
Такая этническая специализация в общественном разделении труда была бы естественной для стабильно функционирующего многонационального общества, если бы она отражала только чисто региональные технологические особенности многонационального разделения труда. Однако проблема заключается в том, что межнациональное разделение труда носит социальный характер, является источником социальной несправедливости, порождающим глубокие противоречия и социальные конфликты, зачастую приобретающие националистические формы.
Следует заметить, что и сегодня сохранились многочисленные и разнообразные причины, породившие и непрерывно воспроизводящие социальную несправедливость в межэтнических отношениях и межнациональном разделении труда. К их числу относятся: во-первых, отсутствие единого народнохозяйственного комплекса; во-вторых, экономическая разбалансированность и неустойчивость большинства межрегиональных и межнациональных связей; в-третьих, резкий разрыв прежних взаимных обязательств, инерция и выжидательность; в-четвертых, неконтролируемая миграция из стран СНГ; в-пятых, все нарастающее засилие бюрократии на всех уровнях, в том числе и в системе экономических отношений; в-шестых, различные ценностные ориентации народов России на определенные виды деятельности.
Такое положение оказывает негативное влияние на структурообразующие факторы, приводит к перекосам во всей системе социальных отношений. Если не учитывать всю эту специфику, то противоречия, существующие в социально-этнической структуре всего российского общества, в том числе в различных автономиях, крупных городах, в республиках Поволжья и в российском Нечерноземье, в других регионах, не только не будут разрешаться, но и, вполне закономерно, станут возрастать и углубляться. Уже сегодня появился ряд новых проблем и противоречий в социальной структуре городского и сельского населения, в межэтнических отношениях, между продавцами, представителями разных национальностей, и покупателями, местным населением, довольно активно проявил себя многочисленный маргинальный слой: торговые посредники, перекупщики, маклеры [4].
Рассматривая более конкретно проблему этнического бытия в социально-экономической системе, отметим, что в современном обществе этнические традиции и ценностные ориентации на определенные виды деятельности стали важным субъективным структурообразующим фактором. У большинства народов сложились свои представления о значимости и престижности той или иной профессии. Например, в последние годы в Москве и в других крупных городах России представители отдельных этносов монополизировали продовольственные и вещевые рынки. На непривлекательные виды труда, работу на стройке, общественном транспорте, физический труд в промышленности и сельском хозяйстве ориентированы граждане бывших союзных республик. В то же время у представителей некоторых других народов, кто проживает за пределами своего национального ареала расселения, сформировались иные ценностные ориентации и предпочтения.
Действительно, межнациональные противоречия и конфликты возникают в тех случаях, когда представители того или иного народа этнически гомогенизируют престижные, выгодные и доходные профессии. Особенно болезненно это воспринимается в тех случаях, когда процент занятых в престижных отраслях деятельности представителей отдельной национальности превышает процент всего населения данной национальности в стране. Конечно, причины связаны, в первую очередь, с отсутствием профессионально разработанной государственной социально-экономической политики, технической отсталостью нашей промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания и транспорта. Не секрет, что сегодня около половины населения оказалось занятым тяжелым, малоквалифицированным и непрестижным физическим трудом. Сегодняв деформированной и деградирующей ситуации казалась вся гуманитарная сфера, система образования и науки, культуры и искусства. Одновременно она превратилась в важнейший социообразующий фактор, позволяющий личности найти свою нишу в социальной структуре общества, т.е. избежать тяжелого физического труда.
Совершая экскурс в нашу историю, отметим, что во второй половине ХХ в. в Советском Союзе занятие умственным трудом означало наличие значительных привилегий. В условиях социальной защищенности и групповой безопасности для людей, имевших высшее образование и престижные профессии, но с низким уровнем культуры и этики, все это давало возможность нормального существования без значительных усилий, профессионализма, компетентности.
Кроме того, во многих учреждениях, на всех этажах бюрократической лестницы имелись доходные места, ниши, особенно привлекательные для национально-групповой экспансии. В сложившейся ситуации возникала межличностная и межгрупповая конкуренция за места в высших эшелонах власти, правоохранительных структурах, вузах, научно-исследовательских институтах, учреждениях управления и творческих союзах. В многонациональной стране данная проблема постепенно приняла характер межэтнической конкуренции, а в дальнейшем стала основой для многих межнациональных конфликтов.
Как известно, в Российской империи, кроме русского народа, лишь немногие представители других этносов имели свои кадры интеллигенции. После Октябрьской революции все народы Советского Союза приобрели возможность получить высшее образование, приобщиться к русской и мировой культуре. Однако именно во второй половине прошлого столетия преимущества, которые получили в социальной сфере представители коренных народов союзных и автономных республик, породили ряд проблем, противоречий и конфликтов в формировании социально-профессиональной структуры больших и малых этносов.
Например, при поступлении в высшие учебные заведения особой привилегией обладало коренное население. Во многих республиках представительство молодежи коренных национальностей среди студентов значительно превышало ее долю в составе населения. Быстрый рост национальных кадров породил серьезные проблемы в их трудоустройстве. Многие их них работали не по специальности или заполняли многочисленные и не всегда эффективные бюрократические управленческие учреждения.
Как показывала статистика, в общественном производстве многих республик не были заняты тысячи представителей разных народов, имеющих высшее образование. Многие из них стали вести праздный, а часто и паразитический образ жизни. Вся эта масса профессионально несостоявшихся людей с начала перестройки и перехода к рынку оказалась в числе активных участников экстремистских митингов и демонстраций, выступила с агрессивными националистическими призывами, организовала целый ряд межнациональных конфликтов, была в эпицентре горячих точек во многих странах СНГ, в том числе и в России.
В новых исторических условиях, подготовленные и воспитанные авторитарной советской системой, «национальные кадры» оказались на вершине политической власти стран СНГ и российских автономий. Воссоздав старую по форме командно-административную систему, но с новыми эмблемами и флагами, конституцией и гимнами, даже с многопартийностью и декларативной свободой слова, они стали с прежней нетерпимостью относиться к инакомыслию, преследовать прессу и другие средства массовой информации, игнорировать мнение иноэтнических меньшинств. Требования социальной справедливости были заменены идеей приоритета титульной нации во многих сферах общественной жизни. Отказавшись от принципа «социалистического интернационализма» в процессе формирования социальной структуры, новая элита уже открыто, в совершенно нецивилизованной форме, стала вытеснять «чужих» из привлекательных сфер деятельности.
Известно, что в советскую эпоху этнические и национальные меньшинства союзных и автономных республик, не имеющие своей государственности, относительно слабо были представлены в управлении, науке, культуре, образовании. В конце ХХ в., когда был снят государственный прессинг, они остались вообще без всякой защиты. В результате, началась массовая миграция этнических и национальных меньшинств, русскоязычного населения из бывших республик Союза и российских автономий в центральные регионы страны. Не секрет, что именно они составляли наиболее квалифицированную часть производственной и гуманитарной интеллигенции и профессионально подготовленных индустриальных рабочих.
Специфическим образом сформированная и проводимая национальная политика на практике обернулась тяжелыми последствиями для всей экономики и социальной сферы бывших республик СССР. Она одновременно породила достаточно сложные социальные проблемы во многих регионах Российской Федерации. Например, огромное количество беженцев и продолжающаяся сегодня неконтролируемая миграция усугубляют вопросы трудоустройства, обеспечения жильем, налаживания диалога между представителями различных этносов, культур и конфессий.
Создание благоприятных условий для обеспечения процесса переселения требует правового обеспечения проведения комплекса мероприятий, начиная от предоставления соотечественникам полной и достоверной информации о содержании Государственной программы; характере и объеме государственной поддержки переселенцев и членов их семей как в процессе переезда, так и по месту будущего жительства; территориях, предлагаемых под заселение; предлагаемых вакансиях для трудоустройства; возможности переобучения и повышения квалификации и др. [9].
Рассматривая пропорции социальных групп и слоев в разрезе этнической структуры, следует отметить, что они значительно дифференцированы. Очевидно, что различны и отношения социальных групп внутри каждого этноса к рыночным преобразованиям в экономике и общественной жизни. К сожалению, у нас сегодня нет полных представлений, объективной социологической картиныпроисхо-дящих в стране сложных процессов, особенно исходя из национальных и этнических различий в социальной структуре общества.
В условиях рисков и неопределенностей, отсутствия перспектив и оптимистических надежд, внутригрупповая и межгрупповая конкуренция часто превращается в межэтнический конфликт, приобретая жестокие и насильственные формы. В настоящее время в нашем обществе наблюдается, усиление противоречий и конфликтов в межэтнических и межнациональных отношениях. Парадоксально, но фактом является то, что за последние годы с признанием «стабильности» и «улучшением» показателей социально-экономического развития страны этнические и конфессиональные различия воспринимаются все более остро и болезненно, чем социальные и политические. Часто за наличие серьезных проблем в государстве и обществе ответственность возлагается на внешнего врага или инонационального соседа, представителей других народов.
За последние десятилетиярадикально изменилось общественноедоверие, значительно снизился потенциал толерантности и согласия, обществоразделилось на «своих» и «чужих», в нем усиливаются агрессия и национализм, этнофобия и мигрантофобия. Гражданское сознание слабо воспринимает этнокультурное многообразие социума, в нем продолжаютформироваться новые культурные барьеры и различные формы этнического и религиозного противостояния. На эти и другие удивительные метаморфозы общественного сознания обращает внимание Э. Паин. Он пишет: «Если в ельцинский период социальные проблемы политизировались, то есть вину за них возлагали на власти или на стоящих за ними олигархов, то сейчас эти вещи все чаще этнизируются – ответственность переносится на «чужие» этнические общности» [5].
Становление и развитие рыночной экономики ухудшило материальное положение большинства граждан России, оказало негативное влияние на общественное сознание, изменило относительное и абсолютное положение этносов в системе социальной структуре. Переход к рыночным отношениям в сфере труда и занятости в условиях структурной перестройки экономики привел к возникновению принципиально новой ситуации в социально- трудовых отношениях [10]. Продолжающийся социально-экономический кризис усугубляет существующее положение. Резко негативную оценку большинства россиян вызывает то, что представители отдельных национальностей заняли преимущественное положение в государственной системе организации и управления, рынка и торговли, туризма и других сфер услуг, то есть наиболее престижные и доходные места. По данным ученых, сегодня этнофобские и антимигранские настроения разделяют 68% процентов россиян [4].
Приходится признавать, что проблемы, существующие в обществе, проецируются на представителей все этнических общини национальных объединений, независимо от времени и особенностей их формирования. Несмотря на то, что за последние десятилетия в переселенческихпотоках превалировали русские, этнофобия распространяется на всех мигрантов. Факторы их роста в нашем обществе носят комплексный характер, производны от страхов утраты культуры, идентичности, традиций, ресурсов, власти. Не секрет, часто они связаны с экономической и социальной неконкурентоспособностью местного населения по сравнению с напористыми и консолидированными иноэтническими группами. Процессы социализации связаны с проблемой действенности социальных, экономических и культурных институтов общества, но они пока слабо работают.
Рассмотрим теперь специфику противоречий социальных групп и слоев на внутриэтническом и межнациональном уровнях. На внутриэтническом уровне социально-групповые противоречия являются выражением и продолжением тех противоречий, которые привели общество к системному кризису. В социальной жизни народов были также подвергнуты размыванию принципы общечеловеческой морали, стали преобладать эгоистические групповые и личные интересы.
Сегодня в государственной системе все более усиливается роль и значимость бюрократических структур. Их безраздельное господство привело к снижению роли общества как интернационального сообщества народов, как саморазвивающейся и саморегулирующейся системы, источника и хранителя национальных этических норм. Во всех сферах жизнедеятельности народов распространились разные формы эксплуатации представителей разных социальных и этнических групп власть имущими, преследующими свои корыстные интересы. Появились обособленные бюрократические элиты, оторванные от своего этноса, которые приобрели характер замкнутого класса, ориентированного на свои внутренние интересы, стандарты и критерии.
Анализируя роль национально-этнических элит в обществе, отметим, что на протяжении последних десятилетий они демонстрируют свою удивительную способность адаптироваться к социальной действительности. Появившись впериод кризиса советской системы, они путем различных ухищрений, корысти, верноподданичества защитили свои групповые интересы перед федеральными министерствами, ведомствами, закрывшими глаза на ущемление интересов национальных меньшинств и малых этносов в республиках и регионах. Попустительство, а часто и соучастие высших инстанций способствовало формированию в национальных республиках теневой экономики и, соответственно, теневой социальной структуры. Появились мафиозные, преступные кланы, сформированные по этническому и родовому принципу, поведение которых создало у людей искаженные понятия о морали и нравственности, представления о вседозволенности и безнаказанности.
Сформировавшись в конце ХХ в., в период стихийного развития российской экономики, бюрократические и мафиозные этнические элиты смогли примкнуть к национальным движениям. Переориентировавшись в новых условиях, они стали пропагандировать идеи этноцентризма, превосходства своей этнической группы над другими. В кризисном обществеэтноцентризмбыстро превратился в свойство коллективной психики, механизм групповой агрессии и самообороны. Его объективным основанием стала антитеза «мы – они» во многих сферах общественной жизни, в частности, в различных открытых и закрытых межэтнических структурах. Опасность этнофобии заключается в том, что она распространяется на широкий спектр «чужих народов», обладает высокой инерционной устойчивостью и может на долгие десятилетия удерживаться в массовом сознании, даже после исчезновения реальных причин.
Следует заметить, что в системе социальных внутриэтнических и межнациональных связей всегда существовали «теневые» и девиантные иерархические структуры. И сейчас многие из них базируют- ся на сакрализованных традициями этнических и национальных обычаях. К числу таких обычаев относится традиция обязательной взаимопомощи представителей этнической или родовой общности в устройстве на выгодную и престижную работу, продвижении по службе.
В обществе переходного типа такая этническая взаимопомощь распространена почти во всех структурах, особенно активна сегодня она в экономической сфере общества. В эти сообщества вовлечены люди, принадлежащие к определенным национальным и этническим структурам, причем традиции и обычаи обязывают всех членов этих групп почти беспрекословно подчиниться их лидерам – «аксакалам», «паханам», «крестным отцам». Умело и искусно приспосабливаясь к непрерывно изменяющимся социальным условиям и ситуациям, теневые структуры становятся неотъемлемой частью всей системы социально-этнического бытия общества.
По мнению Т.И. Заславской, криминальный мир России оказывает заметное влияние на управленческие решения разных уровней, главным образом через механизм коррупции, и играет важную роль в трансформационных процессах [2]. Действительно, он уже давно проявляет себя как самостоятельная сила на политическом поле. Находясь на разных этажах аномических иерархических структур, криминальный мир открыто не участвует в антиобщественных и преступных действиях, но использует все средства, чтобы быть практически неуязвимым для правоохранительных органов.
Заметим также, что в современном атомизированном обществе этничность оказалась наиболее востребованной как средство защиты индивида от государства и от иноэтнических групп. Через посредство своей этнической группы человек вступает в глубокую связь с историей, языком, традицией, самобытной культурой своего народа. В этнической среде индивид обретает чувство защищенности, самости, устойчивости.
Конечно, следует помнить о серьезных негативных проявленияхэтноцентризма. Часто этническое сообщество подавляет индивида, в массе происходит процесс «заражения», выключения рациональных аргументов. Захваченный националистическими страстями, человек теряет свои личностные качества, проявляет ненависть и агрессию к представителям другого этноса, иной конфессии. Утрачивая объективное, критическое отношение к своим обычаям, традициям и нравственным представлениям, он нередко становится слепым орудием в руках националистически амбициозных лидеров и этнических диаспор, в том числе мафиозно-преступных группировок.
Сегодня этноцентризм стал неотъемлемой принадлежностью современного общества и человеческого сознания. Он весьма многолик и имеет широкий диапазон своего выражения. Для развивающихся стран этноцентризм в определенной степени морально оправдан, потому что является ответной реакцией на «вызовы» современным формам глобализации, навязанной западной цивилизацией мировому сообществу. Его можно принять, если он будет сочетаться с терпимостью ко всем народам, специфике их культур, цивилизационным отличиям и чужому укладу жизни. Для этнических меньшинств, в отличие от крупных наций, этноцентризм является своего рода инстинктом группового выживания в иноэтнической среде. Он способствует росту самоуважения и этнического самосознания, сохранению культурной идентичности и не может принести вреда другим народам или их представителям, так как не имеет объективных оснований для перерастания в шовинизм.
Завершая статью, отметим, что объективный характер и непрерывность трансформаций общества актуализируют необходимость модернизации всей социально-экономической системы, что, в свою очередь, выводит на историческую и политическую арену новых субъектов, в числе которых в современную эпоху оказались и этносы, как неразрывная и значительнаячасть социокультурного мира нашей повседневности.
Список литературы Социально-экономические основания этнического бытия: опыт и уроки современности
- Аверин А.Н. Новые данные о динамике коренных малочисленных народов России//Социологические исследования. 2005. №2.
- Заславская Т.И. Современное российское общество: проблемы и перспективы//Общественные науки и современность. 2004. №6.
- Заславская Т.И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе//Общественные науки и современность. 2005. №4.
- Мукомель В.И. Грани интолерантности (мигрантофобии, этнофобии)//Социологические исследования. 2005.№2. С. 58-63.
- Паин Э.А. Издержки российской модернизации: этнополитический аспект//Общественные науки и современность. 2005. №1.
- Руткевич М.Н. Трансформация социальной структуры российского общества//Социологические исследования. 2004. №12.
- Степанов В., Тишков В. Кем себя считают россияне: региональный аспект//Вестник российской нации. 2010. №3.
- Тощенко Ж.Т. Фантомы общественного сознания и поведения//Социологические исследования. 2004. №12. С.4.
- Шерер И.Н. Перспективы тркдового регулирования миграционных процессов//Вестник. Научно-теоретический журнал. Москва: Изд-во Евразийская академия административных наук. 2011. № 2(15)
- Шерер И.Н. Проблемы занятости молодежи на рынке труда//Известия Волгогр. пед. ун-та. 2011.№ 3(67).