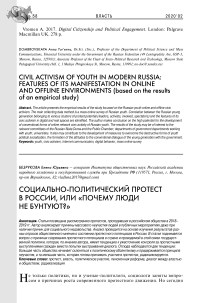Социально-политический протест в России или «почему люди не бунтуют?»
Автор: Безрукова Елена Юрьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению протестов, проходивших в российском обществе в 2018-2019 гг. Автор анализирует причины массового неучастия людей в публичных мероприятиях даже при наличии причин для социального недовольства. Анализ проводится на основе изучения результатов разных опросов общественного мнения о состоянии протестного потенциала в России. В статье поднимается вопрос о причинах созревания протестного потенциала в стране и проводимой в этой связи государственной политики, которая, по мнению автора, имеет тенденцию к ужесточению контроля за протестными выступлениями граждан вместо попытки выстраивания диалога. Отсюда наблюдаются две тенденции: большая часть общества начинает склоняться к политическому абсентеизму и придерживается принципа неучастия, а та меньшая часть, которая готова принимать участие в протестах, радикализируется.
Протест, власть, политическое участие, пенсионная реформа, диалог между властью и обществом, радикализация
Короткий адрес: https://sciup.org/170171133
IDR: 170171133 | DOI: 10.31171/vlast.v28i2.7135
Текст научной статьи Социально-политический протест в России или «почему люди не бунтуют?»
В связи с этим стоит обратить внимание на психологическое состояние общества. Дело в том, что не всегда нереализованность социально-экономических потребностей общества ведет к бунтам и революциям, если есть желаемая перспектива и признаки улучшения ситуации. Но может случиться и обратное. Многолетнее изучение протестов во всем мире заставило Теда Гарра сделать вывод, что к революции может привести депривация – такое психологическое состояние общества, когда в нем возникает агрессия из-за растущей лакуны между ожидаемыми и получаемыми благами, и в этом случае зреет политическое насилие. Для такого вывода американский политолог и социолог сделал эмпирическую выборку из свыше 1 000 эпизодов политического насилия в более чем 100 политиях в период между 1961 и 1965 г. [Гарр 2005].
Если обратиться к нашей действительности и посмотреть на индекс социальных ожиданий, который ВЦИОМ измеряет с 1991 г., то он еще ни разу не поднимался выше нулевой отметки и оставался отрицательным1. Одновременно индексы социального самочувствия за последние 2 года демонстрируют тенденцию к падению по 6 важным пунктам: это удовлетворенность жизнью; социальный оптимизм; материальное положение; экономическое положение страны; политическая обстановка; общий вектор развития страны2.
Ученые из Института социологии ФНИСЦ РАН Р.В. Петухов и В.В. Петухов отмечают, что за последние 2 года вырос запрос на перемены. Но этот запрос не является радикальным и больше касается качества жизни, чем желания коренных политических изменений. При этом авторы пишут, что «последние исследования свидетельствуют о переоценке обществом роли государства и “затухании” в массовом сознании россиян его ценности как ключевого инструмента реализации общего блага. Подавляющее число россиян поддерживает требование открытости власти, обеспечения возможностей граждан влиять на нее посредством законных демократических процедур» [Петухов В., Петухов Р. 2019]. В этом же исследовании отмечается, что желание перемен – это не четко оформленный запрос, а скорее набор требований при отсутствии социальных групп, способных донести его до власти. Кроме того, этот запрос формируется без наличия работающих механизмов связи между властью и обществом, поэтому в выводах авторы пишут, что «в этих условиях перемены и сопутствующие им новые практики социального и политического участия, скорее всего, станут инициироваться самими гражданами и будут произрастать в ходе их борьбы за социально-экономические и политические права и свободы»[Петухов В., Петухов Р. 2019]. Выходит, что граждане готовы бороться за свои права, и легальный протест может служить институтом артикуляции общественных интересов наравне с политическим представительством.
Конфликтологи знают, что наличие явного противостояния далеко не всегда означает распад общества. Как показал классик конфликтологии Л. Козер, у социального конфликта могут быть и позитивные функции: открытые протестные выступления могут служить для разрядки психологической напряженно- сти. При этом важно наличие площадок и институтов для выражения разных позиций, включая позиции разгневанного меньшинства. Ш. Муфф в своей концепции агонистической демократии считает, что консенсус не всегда возможен и «создание пространства для разногласий и поддержка институтов, в которых эти разногласия могут проявляться, жизненно важно для плюралистической демократии» [Муфф 2008].
Важно понять и принять еще одно обстоятельство: за последние годы институт легального протеста как канала выражения общественных позиций и диалога с властью был сильно дискредитирован в глазах населения Российской Федерации. В этом виноваты как сами организаторы протестов, так и власть. «Протестантам» так и не удалось объединиться и выдвинуть серьезную социально-экономическую программу. Политические призывы: «долой власть» не способны представить мнение широкой публики и далеко не всех устраивают. Одновременно власть принимает все более радикальные меры по борьбе с протестующими. Протест уходит в сети, поскольку выражение его с помощью легальных каналов затруднено. И это опасно, поскольку такой протест трудно контролировать.
Но готовы ли сегодня люди к масштабным социальным протестам? Согласно опросам ФОМа1, с 29 июля 2018 по 11 августа 2019 г. более 60% респондентов положительно ответили на вопрос, приходилось ли им слышать критические высказывания в адрес властей за последний месяц. На вопрос о личном недовольстве действиями власти положительно отвечала примерно половина опрошенных (в августе 2018 – 54%, в августе 2019 – 48%). Но при этом 50% опрошенных считают, что если в ближайшие месяцы в месте, где они живут, прошли бы протесты, то на них вышли бы немного людей; 25% считают, что много; 20% затруднились ответить. Аналогичную картину показывают и опросы ВЦИОМа2. Пик положительных ответов на вопрос о возможности выступлений приходится на 2005 г., когда по всей стране шли протесты против монетизации льгот. Следующий всплеск приходится на время белоленточного протеста 2011 г., и начиная с июня 2018 г. эта планка поднялась и стабильно держится в районе 30%. Примерно такие же результаты мы можем увидеть в ответах на вопрос о готовности личного участия людей в протестах3.
Как видно из представленных выше данных, протестный потенциал не очень силен, но в последнее время он вырос и держится у определенной планки. Но интересно рассмотреть позицию тех респондентов, кто ответил отрицательно на вопрос о выходе на протест или воздержался, а это около 70% опрошенных.
Отчасти это можно объяснить увеличением запретительных барьеров со стороны власти. С 2011 г. были внесены изменения в закон о митингах и шествиях, усложняющие процесс подачи заявления и увеличивающие штрафы за нарушение правил. Вместе с этим был ограничен список мест, где можно легально протестовать: согласно интерактивной карте портала ОВД-Инфо, Москва и Санкт-Петербург являются одними из самых доступных городов для проведения публичных мероприятий (для сравнения: в Новосибирске 58,85% территории закрыты для активности подобного рода)4. Тем не менее, согласно выводам того же ОВД-Инфо, судя по практике последних лет, согласовать акцию в центре Москвы стало практически невозможно. Согласно данным другого проекта ОВД-Инфо, касающимся правоприменения статьи 20.2 КоАП РФ, за последние 15 лет текст статьи вырос в 4 раза, в ней появились новые варианты наказаний и существенно увеличились возможные штрафы для участников акций1. Таким образом, можно заключить, что за последние 8 лет проводить публичные мероприятия и участвовать в них стало труднее.
По данным Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), при проведении акций против пенсионной реформы их организаторы в большинстве случаев сталкивались с противодействием власти. «В ряде регионов Указом Президента о мерах безопасности во время Чемпионата мира по футболу фактически было заблокировано проведение потенциально возможных протестных акций (тем более, именно в этот период было объявлено о повышении пенсионного возраста)»2. Согласно выводам ЦЭПР, протест имел высокий мобилизационный потенциал и политизацию. Многие лозунги имели антиправительственный характер. Однако власти не смогли прийти к реальному диалогу с протестными группами и избрали тактику игнорирования и противодействия. В докладе ЦЭПР также отмечается резкий спад протестов после подписания закона, однако подчеркивается, что эти протесты сильно повлияли на восприятие власти в обществе и увеличили уровень недовольства, что скорее всего отразится в будущем. Последнее замечание является очень важным, т.к. указывает на сохранение неразрешенного конфликта.
Итак, мы видим, что согласно вышеизложенным данным на конец 2018 г. существуют свидетельства накопившегося протестного потенциала, связанного с нерешенностью социально-экономических вопросов. При этом огромное число россиян не согласны с итогами повышения пенсионного возраста. К тому же митинги против повышения пенсионного возраста не дали людям желаемого результата.
Не случайно лето 2019 г. в Москве началось с серии массовых несогласованных акций. Еще до волны предвыборного протеста в июне проходила большая несогласованная демонстрация в поддержку журналиста Ивана Голунова, а протесты, касающиеся недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, назвали самыми крупными со времен Болотной площади. Подчеркиваем, что их особенностью стал несанкционированный характер, несмотря на запреты властей и большое число задержаний3.
На этом примере можно увидеть интересную тенденцию: запретительные меры, даже после серии крупных задержаний на митингах, только подогрели интерес к подобного рода мероприятиям и радикализировали действия протестующих.
Какие выводы мы можем сделать из этого? Существуют две ярко выраженные тенденции. С одной стороны, большинство россиян не готовы участвовать в публичных мероприятиях – будь то митинги оппозиции или митинги в поддержку существующего режима. При этом в обществе существует ряд нерешенных социальных проблем. Но в силу отсутствия реальных каналов диалога между властью и населением большинство выбирает путь невмешательства.
Отчасти это связано с тем, что граждане не верят, что власть способна что-то изменить. Другая причина – существующий запрос на перемены не артикулирован, поскольку у социальных групп, которые могли бы стать его агрегаторами, нет институциональных опор для того, чтобы повлиять на власть. Кроме того, политика последних лет была направлена на дискредитацию участия граждан в акциях протеста, даже если они носили мирный и обоснованный характер. Таким образом, недовольство, рождаемое внутри общества, часто не имеет каналов и институтов для выхода, что само по себе является довольно опасной тенденцией.
Вторая тенденция заключается в том, что за последние 2 года протестный потенциал россиян возрос, и то меньшинство, которое все же принимает участие в акциях протеста, стало активнее и начинает отходить от принципа мирных публичных мероприятий в сторону участия в несогласованных акциях протеста с применением актов насилия.
Для того чтобы избежать дальнейшей радикализации выступлений в стране, власти необходимо налаживать новые, реально действующие каналы для диалога с активной общественностью. Примером могут служить факты приглашения активистов протестных выступлений в органы представительной и исполнительной власти (по реновации старого жилья в Москве или по строительству храма в Екатеринбурге) для совместного принятия решений. Вместо усиления мер запретительного и репрессивного характера стоит создать больше горизонтальных площадок для участия и выражения различных общественных позиций. И, конечно, менять социальную политику.
Список литературы Социально-политический протест в России или «почему люди не бунтуют?»
- Гарр Т.Р. 2005. Почему люди бунтуют? СПб: Питер. 461 с
- Муфф Ш. 2008. К агонистической модели демократии. - Логос. № 2(42). С. 180-197
- Петухов В.В., Петухов Р.В. 2019. Запрос на перемены: причины актуализации, ключевые слагаемые и потенциальные носители. - Полис. Политические исследования. № 5. С. 119-133