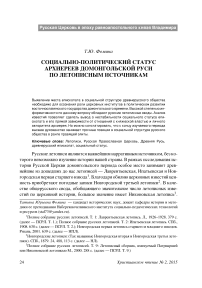Социально-политический статус архиереев домонгольской Руси по летописным источникам
Автор: Фомина Татьяна Юрьевна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Русская Церковь в эпоху равноапостольного Князя Владимира
Статья в выпуске: 2 (61), 2015 года.
Бесплатный доступ
Выявление места епископата в социальной структуре древнерусского обществанеобходимо для осознания роли церковных институтов в политическом развитиивосточнославянского государства домонгольского времени. Высокой степенью ин-формативности по данному вопросу обладают русские летописные своды. Анализизвестий позволяет сделать вывод о нестабильности социального статуса епи-скопата и его прямой зависимости от отношений с княжеской властью и личногоавторитета архиерея. Но можно констатировать, что к концу изучаемого периодавысшее духовенство занимает прочные позиции в социальной структуре русскогообщества в ранге правящей элиты.
Летописи, русская православная церковь, древняя русь, древнерусский епископат, социальный статус
Короткий адрес: https://sciup.org/140190086
IDR: 140190086
Текст научной статьи Социально-политический статус архиереев домонгольской Руси по летописным источникам
Русское летописание является достаточно информативным в целом ряде аспектов, связанных с зарождением церковной иерархии на Руси, возникновением архиерейской власти, становлением епископий в древнерусских княжествах, освещает отдельные аспекты подбора святительских кадров. Однако воссоздание целостной картины церковной жизни домонгольского периода возможно лишь при привлечении всей совокупности исторических источников.
Социально-политический статус личности в любую историческую эпоху зависит от того, какое место человек занимает в системе общественных отношений. Характеризуя положение архиереев в структуре русского общества домонгольского периода, следует не только рассматривать его как часть социальной системы, но и оценить с позиции включенности в политические и экономические процессы своего времени. Положение архиереев в рамках церковной структуры имеет под собой канонические основания — «понеже утвердися обыкновение, и древнее предание, чтобы чтити епископа, пребывающего в Элии: то да имеет он последование чести, с сохранением достоинства, присвоеннаго митрополии» (I Всел. 7)4. Необходимо проверить, отвечают ли законодательные идеалы реалиям социально-политического положения епископов в русских княжествах домонгольского времени.
Анализ проблемы осложняется тем, что положение епископов в русском обществе не было постоянным. Социальный «вес» владык не одинаков в различных княжествах и не является одинаковым на протяжении изучаемого исторического периода. Данное обстоятельство хорошо прослеживается по документам, отражающим включенность епископов в социальную структуру древнерусского общества и его элит.
В период становления русской церковной организации значительная часть архиереев прибывала на Русь из различных уголков христианского мира и занимала высшие ступени духовной власти, порой не зная языка, обычаев и нравов вверенной им паствы5. Вероятно, именно эта пропасть между автохтонным населением и пришлым священством во многом объясняет скупость сведений древнерусских письменных источников о личностях и деятельности архиереев домонгольского периода. Но статус архиереев-греков определялся не только их происхождением и духовными функциями. Некоторые владыки прибывали с посольскими заданиями, как представители византийского императора на территории Руси6. Ряды архиереев пополнялись и из среды русского населения. Естественно, что отечественные святители были выходцами из знатных сословий, прежде всего боярства, и даже из ближайшего княжеского окружения7 .
Характерной особенностью описания взаимодействия митрополичьей и княжеской властей в летописях является формула «князь [такой-то] с отцом своим митрополитом»8. Нередко при фиксации церковных событий присутствует ремарка «митрополиту бывшу тогда…»9. Летописец в такой форме фиксирует лишь присутствие высшей архиерейской власти, подчеркивая, что инициатором действий является князь. Вероятно, присутствие митрополита в окружении князя символизировало благословение и поддержку архиереем княжеских начинаний.
В русском летописании встречаются примеры фамильярного и даже пренебрежительного отношения князей к епископату10. Подобное поведение в отношении архиереев было следствием зависимости последних от светской власти. От благосклонности князей к церковной иерархии зависело материальное положение духовенства. Обеспечение было денежным (десятина князя Владимира) и в форме земельных пожалований11. Есть указания на то, что архи- ереи присутствовали на пирах и даже кормились при княжеских дворах12. Судя по поведению, которое позволяли себе духовные лица, их можно с уверенностью отнести к завсегдатаям данных собраний и рассматривать как часть княжеского окружения, лиц княжеского двора и представителей социальной верхушки общества13. На эту особенность справедливо указывалось в исследовании И.А. Малиновского, который полагал, что со второй половины XI в. происходит сближение статуса митрополита и епископов с городской и военной знатью14. Все вместе позволяло князьям подбирать «удобные» для себя кандидатуры епископов для реализации целей внутренней и внешней политики.
В домонгольский период редко можно видеть представителей духовной власти, проявляющих собственную инициативу. Чаще всего в летописных известиях помещаются сведения о совместной деятельности князей и архиереев по основанию храмов, обителей. Представители светской и духовной властей находятся рядом при проведении крупных религиозно-политических мероприятий. Например, во время перенесения мощей Бориса и Глеба крестный ход возглавляют князья, затем идут черноризцы со свечами и диаконы с кадилами, «посемь презвитеры и по них епископи с митрополитом»15. Высшее духовен- ство в культовом мероприятии, согласно традиции, не возглавляет, а завершает шествие. Примечательно, что «отпевше литургию обедаша братья (Ярославичи. — Т.Ф.) на скупь кождо с бояры своими»16. Присутствие архиереев на данном пиру не отмечено. Следовательно, после совершения службы духовенство не было удостоено чести быть приглашенным к столу, хотя архиереи, пусть и не на почетном месте, но входят в свиту князей. Ясно, что инициаторами канонизации князей Бориса и Глеба выступали Ярославичи. В 1115 г. роль первосвятителя в устроении культа братьев-страстотерпцев иная. Митрополит Никифор, в отличие от митрополита Георгия, стал активным участником процедуры перенесения мощей Бориса и Глеба вместе с подвластным ему духовенством17.
К концу изучаемого периода традиция перенесения святых мощей будет усвоена уже на уровне отдельных княжеств. Под 1230 г. описывается перенесение мощей мученика Авраамия во Владимир. Инициатива исходит от княжеской власти — «великыи княз блгочстивыи Георгии оусрете и перед городом за версту с великою честью», а начинание властителя поддерживают «епспъ Митрофан со всем клиросом и со игумены и княгыни з детьми и вси людье»18. Как для Ярославичей в период христианизации Руси было важно создание святыни общегосударственного масштаба, так и для Владимирского княжества, в первой трети XIII в. стремившегося к упрочению своих политических позиций, было необходимо обретение мощей мученика, пострадавшего за веру (пусть и за пределами Русской земли)19.
Своеобразным было участие владык в некоторых процедурах политического характера, в частности в обряде крестоцелования, которым завершалось примирение или заключение договоров20 . Ни разу в обряде крестоцелования присутствие высших архиереев не отмечено. По мнению П.И. Гайденко, кресто- целовальные кресты могли находиться у светских властителей, и участия духовенства в этом не требовалось. Однако разрешение от клятв оставалось преро- гативой высшей духовной власти — митрополитов и епископов.
Летописные известия сохранили примеры попыток привлечь духовенство к решению внутриклановых проблем Рюриковичей. В 1096 г. князья вместе с духовенством не смогли склонить князя Олега к объединению с Владимиром Мономахом и Святополком Изяславичем, «дабы оборонили землю русьскую от по-ганых»21. П.С. Стефанович обратил внимание на то, что дерзкий отказ Олега был расценен летописцем как пренебрежение авторитетом духовенства22. Вообще выполнение святительских функций не гарантировало архиереям личной безопасности. В данном отношении показательна новгородская кафедра: епископ Стефан был задушен собственными холопами23, епископа Федора пытались убить в ходе мятежа с участием волхвов24, Лука Жидята был оклеветан холопами25 . Как объяснить отсутствие пиетета к архиереям в древнерусском обществе? Исследователи пытались давать ответ на этот вопрос. По мнению А.Ю. Дворниченко, древнерусское общество не усматривало в представителях
Церкви «надстройки», стоящей во главе социальной структуры, в отличие от Византии, это было неприемлемо26. Таким образом, «базовая православная теория “симфонии” между Церковью и государством, а также между их руководи- телями, изначально имела существенно различное звучание в Царьграде и Кие- ве»
При этом в исследованиях отмечаются черты сходства в отношениях государства и Церкви на Руси и в странах Западной Европы до реформ Григо- рия VII (середина XI в.)28. Подобно тому как в Европе, начиная с эпохи Карла Великого, королевская власть многочисленными милостями благодетельствовала не включенную еще в политические процессы Церковь29, древнерусские князья заботились об обеспечении иереев и задавали направление церковной политики. И в Европе, и на Руси статус высшего духовенства во многом определялся отношением к церковной иерархии со стороны светской власти30. Взаимоотношения между Священством и Царством несли на себе печать личных симпатий и антипатий.
Источники сохранили примеры тесных и приязненных отношений князей и иерархов: Ярослав Мудрый — митрополит Иларион, Лука Жидята31, Юрий Долгорукий — новгородский владыка Нифонт32, Андрей Боголюбский — епископ Федор33, либо как минимум благосклонного отношения князей к высшему духовенству. Примером здесь может служить отношение Владимира Святославича к приближенному им Анастасу Корсунянину, Владимира Мономаха к духовнику Нифонту34.
Судя по летописным данным, епископат принимал участие в семейных делах35. Святители оказывали князьям поддержку в их борьбе за престолона-следование. Согласно Ипатьевской летописи, не названный по имени епископ помог в 1164 г. Святославу Всеволодичу обманным путем взойти на Черниговский престол36. В 1212 г. «изнемогающий» великий князь Всеволод Юрьевич по совету суздальского епископа Иоанна лишил своего старшего сына Константина Владимирского престола за ослушание37. В делегации по приглашению князя Ярослава Всеволодовича на новгородский престол в 1215 г. принимает участие архиепископ Антоний (Добрыня Ядрейкович)38. В 1222 г. новгородцы «послаша владыку Митрофана и посадника Иванка и стареишии мужи в Володимиръ къ Юрью ко Всеволодицю, и дасть имъ сына своего Всеволода на всеи воли новгородчкои»39. В 1230 г. митрополит Кирилл с черниговским епископом Порфирием и игуменом монастыря святого Спаса на Берестове Петром Аскеровичем успешно выполнил миссию по примирению двух княжеских ветвей рода Рюриковичей40.
Выступая в роли примирителей князей, иерархи укрепляли позиции церковного института. Успех или неуспех посреднических миссий зависел от авторитета конкретных личностей, а сам факт участия высшего духовенства в переговорах отнюдь не гарантировал решения проблемы. Так, Юрий Долгорукий принял новгородского владыку Нифонта с честью, одарил подарками, но «мира Новгороду не дал»41, не удалось сотворить мира и митрополиту Кириллу42; Владимирский князь Всеволод Юрьевич не послушался «своего епископа бла-женнаго Лукы» и Рязани мира не дал43.
Получается, что главы кафедр так и не получили рычагов влияния на светскую власть. Это влияние определялась лишь личным авторитетом архиерея либо объемом делегированных им князьями полномочий. Поэтому высшее духовенство прибегало к способам морально-нравственного воздействия на княжескую власть — через послания, проповеди, поучения44. Содержание данных произведений, переписка митрополитов и епископов с представителями княжеской власти свидетельствуют о шаткости и нестабильности положения архиереев. Духовенство не столько наставляет князей, сколько пытается представить идеальный для Церкви образ правителя, увещевает не нарушать религиозноэтических норм и разъясняет отдельные особенности христианского вероучения. Яркий пример таких взаимоотношений — послания киевского митрополита Никифора (ум. 1121) князю Владимиру Мономаху45. В послании о посте он наставляет Владимира Мономаха относительно вопросов управления княжеством и личного благочестия46. В «Послании на латину» — перечисляет заблуждения католиков и в контексте предостережений завершает обращение к князю Владимиру прославлением его достоинств и призывом держаться правой ве-ры47.
Еще один комплекс посланий принадлежит перу Туровского епископа Кирилла. «Притча о человеческой душе и теле», сохранившая поучение о «хромце и слепце» хотя напрямую и не адресована Андрею Боголюбскому, но содержит обвинения могущественного князя за поддержку узурпировавшего святительские полномочия епископа Федора (Федорца)48. Однако нам не известно, отвечал ли князь на послания епископа. Вряд ли вообще существовала традиция ответов князей святителям. Поэтому и слово Кирилла — это памфлет, обвинение. Фактически это самая резкая форма общения представителя Церкви с властителем. Нормы отношений строились по другой модели. В отношении архиереев княжеская власть обладала широким спектром влияния. Князья, а в отдельных случаях политические элиты княжеств, могли поставлять49, рекомен- довать50, не принимать51, изгонять52, смещать53 представителей высшего духовенства. Подобные действия, конечно же, можно было свершать в отношении далеко не каждого архиерея. Прибывшие из Византии иерархи обладали дипломатической неприкосновенностью54.
Но и здесь были исключения. В 1185 г. митрополиту Никифору так и не удалось поставить на Ростовскую кафедру грека Николая. В этом случае решение Всеволода Юрьевича было поддержано киевским князем Святославом Всеволодовичем55. Вероятно, проблема крылась и в личности Николая, пришедшего искать святительского сана на Русь. Ростовская кафедра была вакантной, чем и воспользовался митрополит Никифор. Всеволод представил вполне убедительный аргумент — нежелание паствы принять данного архиерея.
Иной характер имеют взаимоотношения светских властителей с епископами из местного духовенства. Если таковые были княжескими ставленниками, их положение мало чем отличалось от положения представителей высшего княжеского окружения. Если на этапе становления Русской Церкви «кузницей» архиерейских кадров выступал Киево-Печерский монастырь, что давало канди- датам в священство дополнительную поддержку со стороны иноческого братства, то к середине XII в. устанавливается иная практика. Князья предпочитали поставлять на вакантные кафедры игуменов «фамильных» монастырей. В Новгороде возникает и утверждается еще одна традиция — подготовка кандидатов в архиереи в монастырях, основанных боярской элитой56. Владыкам в этом случае делегировались дополнительные властные полномочия57.
Известны случаи, когда в епископский сан возводились лица, происходящие из местной знати. Они обладали высокой степенью доверия и авторитетом. Знатное происхождение явно повышало статус в рамках духовной иерархии. Сохранял ли архиерей права и статус, которыми он обладал до пострига? Сведения источников не позволяют однозначно ответить на данный вопрос. На примере архиереев Новгорода, Турова и Ростова можно уверенно говорить об особом личном влиянии святителей данных кафедр на политические, социальные и экономические процессы в своих княжествах. Так, высоким личным авторитетом обладал воспитанник Печерского монастыря Нифонт Новгородский. «Активное участие в церковно-политической борьбе» принимал Кирилл Туров-ский58. При поддержке боярских родов значительную роль в жизни Великого Новгорода сыграли Илья (Иоанн) и Григорий (Гавриил), а безраздельную власть ростовскому епископу Федору обеспечивала поддержка со стороны князя Андрея Боголюбского59.
Летописные известия, сообщающие о восхождении архиереев на кафедру и их смерти, также позволяют судить о месте иерархов в социальнополитической структуре русского общества. Поставление либо прибытие архиереев на кафедру описывается по-разному. Иногда это сухая констатация фактов — «поставлен бысть»60; с различной степенью подробности описывается церемония — встреча князем и духовенством за пределами города, оказание ми-лости61, детали избрания62, прибытия на кафедру63. Есть случаи, когда иерархи упоминаются лишь в качестве участников общерусских событий64. Лапидарность информации не позволяет прояснить время и обстоятельства прибытия на кафедру большинства архиереев. Сами по себе умолчания весьма красноречивы. Архиереи, близкие к княжеской власти (Андриан Белгородский, Федор Ростовский)65 и поставленные из числа местного духовенства (Новгородские владыки Аркадий, Илья (Иоанн), Григорий (Гаврила))66 удостаиваются большего внимания летописцев. Таким образом, для определения социального статуса архиереев важнейшее значение имеют сложившиеся взаимоотношения епископов с княжеской властью и политическими элитами русских земель.
Некоторые данные о социальном статусе высшего духовенства дают сообщения о месте погребения митрополитов и епископов67. Если местом упокоения для князей служили построенные ими монастыри и церкви68, местами почитания становились усыпальницы святых князей или построенные для них храмы69, то места упокоения митрополитов и епископов известны хуже. На сегодняшний день, не считая захоронения первого русского митрополита Михаи-ла70, достоверность которого сомнительна, места погребения первых семи русских архиереев нам не известны71. Впервые сведения о смерти митрополитов помещены в летописи под 1089/1090 гг.: «Преставися Иоанъ митрополит Киевский и всея Руси; бысть же сей Иванъ мужь хитръ книгам и ученью, милостивъ ко убогимъ и ко вдовицамъ, ласкавъ же къ богатымъ и убогимъ, и тихъ, и смиренъ, и кротокъ, и милостивъ, и млъчаливъ, речистъ же, книгами святыми утешая печалныа; и таковаго не бысть въ Руси преже, и по немъ не вемъ будетъ ли таковъ»72. За ним следует известие о смерти Иоана Скопца, приведенного в Киев Анной Всеволодовной, «и отъ года до года пребывъ преставися; бе же сей мужь не книжен, и умомъ про-стъ и просторекъ»73. Несмотря на очевидную важность события для церковной жизни, летописцы не указывают места погребения иерархов.
Первое упоминание о смерти и последующем погребении архиерея относится к 1159 г., когда сбежавший из Киева от Мстислава Изяславича митрополит Константин74 заповедал Черниговскому епископу Антонию, приютившему его, «по умертвии…повръзите псомъ на снедение и птицамъ на разхищение»75, что и было исполнено. Лишь на четвертый день «наутрие князь велики Святославъ Олговичь со Антониемъ епископом своим Чръниговскимъ, и со князи, и з бояры и со множествомь много народовъ собрашеся, и шедше за град со страхомъ и трепетомъ, и съ великою честию взяша тело его, много благоуханиа испущающе, и внесше во градъ положиша его во свя- тей церкви въ Спасе въ Чернигове»76. События имеют прямое отношение к истории автокефального митрополита Климента Смолятича. Приверженностью своему избранику на митрополичий стол объясняется «злоба» киевского князя Мстислава Изяславича на присланного из Византии Константина. Понятно и нежелание архиерея терпеть унижения, т.е. «въ молве (молбе) и въ смущении быти»77. В действиях черниговского князя Святослава Ольговича и епископа Антония проявляется тонкий расчет. Если после бегства митрополита Константина на киевском престоле Мстислав Изяславич восстановит Климента Смолятича, который в это время еще здравствовал, тогда черниговская кафедра может претендовать на восстановление митрополии, утраченной после распада триумвирата Ярославичей, и установление прямых канонических отношений с Византийскими пат-риархами78. Не случайно в качестве места захоронения Константина был избран кафедральный собор.
В последующие годы известий о захоронении первосвятителей не зафиксировано. Летописи протокольно сухо констатировали смерть иерархов. Под 1163 г. значится «преставися пресвященный Феодор, митрополит Киевский и всеа Руси»79. Подобным образом извещается о смерти следующего за ним Иоанна80. Новое сообщение об уходе из жизни первого лица в русской церковной иерархии появилось в летописях лишь через 54 года. В 1220 г. скончался митрополит Матфей. А через три года, в 1233 г., — «преставися» Кирилл, «родом же бысть Гречинъ изъ Никиа»81. Как видим, свидетельство о смерти и погребении митрополита Константина является единственным, а подробности коренятся в обстоятельствах обострившейся внутрицерковной борьбы.
Причины столь продолжительного умалчивания русскими источниками сведений о смерти и погребении русских церковных иерархов, по мнению П.И. Гайденко, «объясняются, во-первых, их греческим происхождением, выполнением консульских обязанностей, сохранением византийского подданства и отчужденностью от политической жизни Киевской Руси; во-вторых, их малой авторитетностью в местной церковной среде; в-третьих, невысоким статусом во властной иерархии Руси; в-четвертых, отсутствием ясной структуры самой русской церковной организации»82 . К тому же церковные иерархи могли не умирать на киевской кафедре, а покидали место своего служения, как только заканчивались, например, их посольские полномочия83.
Более подробны летописные сведения о русских по происхождению епископах домонгольского времени. Проследить подробности погребения епископов возможно лишь в отношении Великого Новгорода, где святителям отводилась особая роль в политической структуре вечевой республики84. Имеется полный список владык домонгольского периода. Но даже несмотря на это Новгородская первая летопись не сообщает подробных сведений о смерти и захоронении Иоакима Корсунянина, Луки Жидяты, Стефана, Германа. В связи с кончиной владык употребляется традиционная летописная формула: «преставися Феодор архиепископ новгородьскыи»85. Такая же формула применена и в отношении владыки Никиты86. Место захоронения Иоанна Попьяна, что «отвержеся епископии», тем более не указано. Древнейшая подробность о месте погребения новгородского святителя читается в летописи под 1156 г.: «Тои же весне преста-вися архиепископъ Нифонт…Мьню бо, яко не хотя богъ, по грехомъ нашимъ, дати намъ на утеху гроба его, отведе и Кыеву тамо преставися; и положиша и въ Печерьскем мана-стыри. У святеи Богородици въ печере»87. Воспитанник Печерского монастыря был похоронен в стенах родной обители, т.к. скончался во время своего пребывания в Киеве. Дело не только в высоком авторитете незаурядной личности Нифонта. Он был первым епископом независимого Новгорода. Прежние владыки являлись ставленниками княжеской власти.
После Нифонта новгородские святители, как представители высшей власти, удостаивались погребения в городском кафедральном соборе. Под 1163 годом появляется традиционная для преставления последующих новгородских архиереев запись «преставися Аркадей епископъ Новогородский…и положен бысть въ Новегороде въ притворе святыя Софии»88, т.е. в качестве места захоронения архиереев был избран Софийский собор. Случайным данный факт являться не может в связи с тем, что начиная с Аркадия новгородскую кафедру будут возглавлять архиереи из местного духовенства и сведения об их уходе из жизни будут отличаться шаблонностью89.
Сохранившиеся подробности о смерти и погребении епископов в других русских княжествах гораздо более скупы. В традиционной форме под 1094 г. сообщается, что «преставися епискупъ Володимерскый Стефан, месяца апреля в 27 день, въ час 6 нощи»90. Под 1122 г. читаем: «преставися епископ Юрьевский Данило»91, под 1142 г. — «преставися Черниговьский епископ блаженый Пантелемонъ»92. Никоновская летопись (1215 г.) извещает о погребении в Ростове епископа Пахомия: «князь велики же Констянтинъ Всеволодичь съ Симономъ, епископом Суздалскимъ и Воло-димерскимъ, и со всемъ священнымъ соборомъ положиша мощи его честно въ церкви пречи-стыа Богородици въ Ростове»93, т.е. епископа похоронили в кафедральном храме, при стечении народа и почитании со стороны князей. Кроме единичного случая погребения владыки Новгородского Нифонта, летописи умалчивают о захоронениях владык в стенах монастырей. Правда, найденный на территории бывшего погоста Борисоглебского монастыря в Турове саркофаг дал специалистам основание предполагать, что местные архиереи могли находить последнее упокоение именно на иноческом кладбище94. Уникальным было захоронение Белгородского епископа Максима, над белокаменным саркофагом и кельей которого была воздвигнута малая церковь95.
Летописи по большей части демонстрируют невнимание и забвение мест погребения архипастырей. И все же редкие упоминания о стечении народа и присутствии высшей княжеской власти при отпевании святителей позволяют говорить о высоком социальном статусе почивших архиереев. Почитание святи- телей было характерно для Новгорода периода его независимости, в остальных княжествах оно носило индивидуальный характер, и подавляющее большинство епископов подобных почестей не удостоились.
Подводя итог сказанному выше, приходится констатировать, что на Руси положение «где епископ, там и Церковь», характерное для Восточной и Западной Церквей изучаемого периода, так и не стало непреложным каноном96. Общественное положение высших церковных иерархов домонгольской Руси отличалось большим разнообразием и множеством индивидуальных особенностей. Скорее всего, в русском обществе изучаемого периода не существовало такого понятия, как «социальный слой» (в современном нам понимании)97. Для обозначения места человека в обществе, вероятно, использовались совсем иные категории — «свободный — не свободный», «бедный — состоятельный», а то, что сегодня обозначается как «социальный статус», определялось степенью личного, корпоративного или родового влияния на политические, экономические и идеологические процессы. Таким образом, русские летописные источники свидетельствуют о том, что социально-политический статус архиереев на Руси в домонгольский период был достаточно нестабилен и напрямую зависел от взаимоотношений священства с княжеской властью, степени значимости епископии в Киевской митрополии и от авторитетности епископа в пределах своего округа.
Список литературы Социально-политический статус архиереев домонгольской Руси по летописным источникам
- Авраамий (Аврамий) Болгарский//Православная энциклопедия. Том I. М., 2000. С. 172-173.
- Бойцов М.А. Величие и смирение: Очерки политического символизма в средневековой Европе. М., 2009. 549 с.
- Введение христианства на Руси/отв. ред. А.Д. Сухов. М., 1987. 302 с.
- Гайденко П.И. «В се же лето преставися Иоан митрополит…» Беглый взгляд на смерть первых церковных иерархов в Киевской Руси//Гайденко П.И., Москалева Л.А., Фомина Т.Ю. Церковь домонгольской Руси: иерархия, служение, нравы. М., 2013. С. 63-67.
- Галимов Т.Р. Русская церковная иерархия в княжеских междоусобицах в середины XII -первой трети XIII века//Вестник Челябинского государственного университета: История. 2012. № 25(52). С. 104-114.
- Гергей Е. История папства/пер. с венгер. О.В. Громова. М., 1996. 463 с.
- Гидулянов П. Митрополиты в первые три века христианства//Ученые записки имп. Московского университета Юридического факультета. Вып. 25. М., 1905. 377 с.
- Дворниченко А.Ю. Древнерусское общество и Церковь. Л., 1988. 32 с.
- Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв./изд. под. Я.Н. Щапов, отв. ред. Л.В. Черепнин. М., 1976. 241 с.
- Древняя Русь: Город, замок, село. М., 1985. 432 с.
- Еремин И.П. Сочинения Феодосия Печерского в подлинном тексте//ТОДРЛ. Т. 5. М.; Л., 1947. С. 168-173.
- Карпов А.В. Язычество, христианство, двоеверие: религиозная жизнь Древней Руси в IX-XI веках. СПб., 2008. 184 с.
- Каштанов С.М. Жалованные грамоты на Руси XII-XIV вв.//Средневековая Русь/отв. ред. А.А. Горский. М., 1999. Ч. 2. С. 21-45.
- Кирилла монаха притча о человеческой душе и о теле, о нарушении Божией заповеди и о воскрешении тела человеческого, о Страшном Суде и мучении//Колесов В.В. Кирилл Туровский. М., 2009. С. 25-40.
- Костромин К.А. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины XII века.)/дис.. канд. ист. наук: 07.00.02. СПб., 2011. 241 с.
- Лысенко П.Ф. Города Туровской земли. Минск, 1974. 198 с.
- Мавродин В.В. Очерки истории Левобережной Украины (с древнейших времен до второй половины XIV века). СПб., 2002. 416 с.
- Малиновский И.А. Древнейшая русская аристократия. Киев, 1903. 19 с.
- Матченко И. Спорные вопросы по истории крещения Руси (Ответ на статью г. Левитского в «Христианском чтении» 1890 г.)//Странник. 1891. Т. 2. С. 375.
- Мусин А.Е., диак. Святые мощи в Древней Руси: литургические аспекты истории почитания//Восточнохристианские реликвии. М., 2003. С. 363-386.
- Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX-XII веков. М., 2001. 784 с.
- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Рязань, 2001. 639 с.
- Новгородские летописи: (Так названные Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). СПб., 1879. 24, 488, 113 с.
- Петр (Гайденко П.И.), иером. Зарисовки повседневной жизни древнерусских архиереев: стол и достаток//Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2013. Вып. 1(5). С. 84-105.
- Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988-1237). СПб., 1996. 572 с.
- Покровский Н. Н. Власть и Церковь на Руси//Россия. 1997. Август. С. 70-75.
- Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Л., 1926-1928. 379 с.
- Полное собрание русских летописей. Т. 2: Ипатьевская летопись. СПб., 1908. 638 с.
- Полное собрание русских летописей. Т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью М., 2000. 288 с.
- Послание Иакова черноризца к князю Дмитрию Борисовичу//ПЛДР. XIII век. М., 1981. С. 456-463.
- Послание Симона, епископа владимирского, княгине Верхуславе-Анастасии Всеволодовне (Киево-Печерский патерик)//ПЛДР. XII век. М., 1980. С. 481.
- Послание Феодосия Печерского Изяславу Ярославичу//РНБ. Кир.-Бел. № 4/1081. Л. 20б-23б.
- Регинон Прюмский. Хроника//Древняя Русь в свете зарубежных источников./под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой и А.В. Подосинова. Том. IV: Западноевропейские источники; сост., пер и коммент. А.В. Назаренко. М., 2010. С. 47-49.
- Седов В.В. Погребения «святых князей» и архитектура княжеских усыпальниц Древней Руси//Восточнохристианские реликвии. М., 2003. C. 447-481.
- Скабаланович Н.А. Византийское государство и Церковь в XI в.: от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. СПб., 2010. 449 с.
- Соколов П. Русский архиерей из Византии и право его назначения до XV в. Киев, 1913. 442 с.
- Стефанович П.С. Религиозно-этические аспекты отношений знати и князя на Руси в X -XII веках//Отечественная история. 2004. № 1. С. 3-18.
- Тальберг Н.Д. История Русской Церкви. М., 1997. 924 с.
- Татищев В.Н. История Российская: В 3 т. М., 2005. Т. 2. 732 с.
- Творения митрополита Никифора/изд. подгот. С.М. Полянским; отв. ред. М.Н. Громов, С.М. Полянский. М., 2006. 501 с.
- Титмар Мерзебургский. Хроника//Древняя Русь в свете зарубежных источников/под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой и А.В. Подосинова Том. IV: Западноевропейские источники; сост., пер. и коммент. А.В. Назаренко. М., 2010. С. 63-83.
- Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1956. 350 с.
- Толочко П.П. «Емше, влачаху поверзше ужи за ноги»//Ruthenica. Альманах середньовiчної iсторiї та археологiї Схiдної Европи/НАН України. Iнститут iсторiї України. К.: Iнститут iсторiї України, 2010. Т. IX. С. 17-22.
- Хорошев А.С. Участие новгородской Церкви в политической жизни (1200-1230)//Новое в археологии. М., 1972. С. 241-246.
- Хорошев А.С. Церковь в социально-политической системе Новгородской феодальной республики. М., 1980. 223 с.
- Цыпин В.А. Каноническое право. М., 2009. 864 с.
- Чичуров И.С. Политическая идеология средневековья (Византия и Русь). М., 1991. 176 с.
- Янин В.Л. Некрополь Новгородского Софийского собора. М., 1988. 235 с.
- Poppe A. Panstwo i kosciol na Rusi w XI wieku. Warszawa, 1968. 252 s.