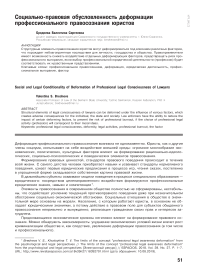Социально-правовая обусловленность деформации профессионального правосознания юристов
Автор: Бреднева В.С.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (2), 2019 года.
Бесплатный доступ
Структурные элементы правосознания юристов могут деформироваться под влиянием различных факторов, что порождает неблагоприятные последствия для личности, государства и общества. Правоприменители имеют возможность снижать воздействие отдельных деформирующих факторов, предотвращать риск профессионального выгорания, если выбор профессиональной юридической деятельности (профессии) будет соответствовать их нравственным представлениям.
Профессиональное правосознание, деформация, юридическая деятельность, профессиональное выгорание, фактор
Короткий адрес: https://sciup.org/14121082
IDR: 14121082
Текст научной статьи Социально-правовая обусловленность деформации профессионального правосознания юристов
Деформация профессионального правосознания возникла не одномоментно. Юристы, как и другие члены социума, испытывают на себе воздействие внешней среды: огромное многообразие экономических, политических, культурных факторов влияют на формирование рационально-идеологических, социально-психологических и поведенческих элементов правосознания.
Формирование правовых ценностeй, стандартов правового поведения происходит в течение всей жизни. С самого детства человек приобретает навыки и усваивает стандарты нормативного поведения, узнает первые юридические предписания в процессе игр, чтения сказок, постепенно в упрощенной форме складывается собственная картина правовой жизни.
В дальнейшем субъекты осваивают модели поведения в процессе специального образования — юридического: посредством целенаправленного воздействия формируются профессиональные юридические знания, навыки и компетенции1.
Элементы правосознания в современном обществе полностью не сформированы, нестабильны, что содействует усилению тенденций противоправного поведения даже при незначительном обострении социально-экономической обстановки. Социальные отношения в обществе в значительной мере основаны на морали. Население, с которым работают юристы, в основном не обладает юридическими знаниями, а потому действие в правовом поле для субъектов обыденного правосознания непривычно и вынужденно; реализация гражданами своих прав и интересов затруднена.
Продолжающиеся экономические кризисы негативно влияют на формирование правового сознания. Можно обнаружить закономерность: ухудшение экономических условий жизни влечет рост криминализации общества и, как следствие, увеличение деформации правосознания (в том числе и профессионального).
СТАТЬИ
Такие проблемы признаны на государственном уровне и отражены в Распоряжении Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.»: «Действенность институциональных изменений зависит от того, в какой степени принятые законодательные нормы подкреплены эффективностью их применения на практике. В России образовался существенный разрыв между формальными нормами (законами) и неформальными нормами (реальным поведением экономических субъектов), что выражается в низком уровне исполнения законодательства и терпимом отношении к такому неисполнению со стороны власти, бизнеса и широких слоев населения, то есть в правовом нигилизме. Такая ситуация значительно осложняет формирование новых институтов, в том числе необходимых для развития инновационной экономики»2.
При этом сама «деформация правосознания» может осознаваться субъектами права (юристами в силу наличия образования), но субъекты воспринимают свое «аномальное восприятие права и отклоняющееся поведение в сфере права» как способ приспособления к сложной неблагоприятной окружающей среде.
Наиболее опасно, когда непочтительное отношение к праву проявляют не просто субъекты обыденного правосознания, но и отдельные правоприменители. Ученые отмечают длительную тенденцию деформации профессионального правосознания, проявляющегося в формировании преступных установок и ориентаций3.
С 2011 по 2016 г. следователями проверено около 200 тыс. сообщений о коррупционных преступлениях. Возбуждено около 120 тыс. уголовных дел. В суд направлено почти 50 тыс. уголовных дел. В качестве обвиняемых по направленным в суд делам о преступлениях коррупционной направленности привлечено 3 360 лиц, обладающих согласно главе 52 УПК РФ особым правовым статусом. В их числе 1 113 глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 1 133 депутата местных органов власти, 395 следователей и руководителей следственных органов, 286 адвокатов, 82 прокурора, 58 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 23 судьи4.
Еще одной проблемой является и то, что в России уровень принудительного исполнения судебных актов не превышает 52%5.
Становится очевидным, социум, в котором нормы права нарушаются властными субъектами, представителями государства, невозможно убедить в целесообразности и полезности правовых предписаний.
Деформация профессионального правосознания в различных формах проявляется все более отчетливо, в частности, в криминализации различных сфер жизни общества, препятствуя формированию эффективной правовой системы в государстве. Высокий уровень правового сознания личности предполагает отрицательное отношение к нарушению законности и правопорядка, умалению субъективных прав и свобод граждан.
Не следует считать, что деформация профессионального правосознания свойственна только отечественным юристам. В англоязычной литературе поднимаются аналогичные вопросы в научных трудах6.
Во многих правовых системах юрист традиционно рассматривается как защитник клиента. Задача субъекта профессионального правосознания заключается только в том, чтобы представлять и защищать интересы клиента без анализа того, правильно или неправильно, морально или аморально поведение представляемого. Предполагается, что оцениваться аргументы будут судом.
СТАТЬИ
Такое представление роли юристов игнорирует вопрос о том, до какой степени личные убеждения представляемого должны влиять на профессиональное поведение юристов. В научной литературе редко анализируются последствия поведения юристов, отстаивающих интересы клиентов, противоречащих их нравственности, воле. Психологи описывают различные механизмы происходящей деформации правосознания в таком случае.
Существует механизм «установочной поддержки» противоречивой позиции — это непреднамеренные, неосознаваемые эффекты, изменение рационально-идеологических, эмоциональных элементов правосознания, происходящие в процессе убеждения других людей.
Если юрист излагает доводы, противоречащие его взглядам, то невербальные формы общения, коммуникативное поведение могут выдавать эти сомнения. Юрист становится более убедительным, если сам разделяет озвученные убеждения. Специальный субъект, защищающий положение, попытается найти все аргументы, поддерживающие его и уменьшающие значение доводов другой стороны.
Субъект профессионального правосознания подсознательно стремится достигнуть построения последовательности среди всех своих взглядов и мнений. Когда есть непоследовательная мысль, человек испытывает неприятное психоэмоциональное состояние, названное внутренним конфликтом. Чтобы избежать этого дискомфорта, юрист будет стремиться уменьшить разногласие и найти баланс. Логически такая ситуация будет выглядеть в виде следующей формулы: Я верю Y, но представляю интересы не-Y.
Психологи определяют много переменных, которые приводят к вероятности изменений отношения к ситуации и поведению. Для юриста это могут быть различные стимулы, вариативность интерпретации правовых и моральных норм, которые позволят изменить поведение так, чтобы собственные взгляды, убеждения совпадали с профессиональной позицией.
Иногда юристу приходится прилагать немалые усилия, чтобы оправдать свою работу, особенно если субъект понимает, что его действия могут причинить вред обществу или окружающей среде.
Например, юрист, который придерживается концепции сохранения окружающей среды, но при этом вынужден представлять промышленность в противостоянии с контролирующими органами, осуществляющими надзор за охраной окружающей среды, должен будет приложить большие усилия для самооправдания, подбирая оригинальные способы убеждений.
Чем больше усилий израсходовано для «установочной поддержки», тем больше развиваются внутренние разногласия и последующее самоубеждение.
Когда юрист принимает профессиональную задачу, которая вступает в противоречие с его собственным мнением, он становится заложником ситуации, временно мотивированным, чтобы продумать все положительные аргументы и подавить мысли об отрицательных аспектах. Этот психо-поведенческий механизм увеличивает возможность принятия новой ранее неприемлемой позиции.
Ряд авторов считают, что эмоциональное отношение определяет поведение7. Соответственно, эмоционально-психологические элементы профессионального правосознания обуславливают поведенческие.
Таким образом, юрист с большой долей вероятности примет новый взгляд на правовую ситуацию и это отразится на профессиональном поведении. Ученые отмечают, что для людей трудно выбирать одно, а при этом верить в другое. В конечном счете или действие будет соизмеримо со взглядами (например, юрист отказывается от дела, которое считает безнравственным), или юрист поменяет свои взгляды. В ряде случаев определяющим фактором могут стать размеры гонораров.
Роль государства, образовательных учреждений в том, чтобы убедить юристов, что не следует заниматься той профессиональной практикой, которая является безнравственной, не соответствует взглядам субъекта, посягает на важные нравственные ценности.
Кроме того, для преодоления деформации профессионального правосознания юрист должен выбирать виды деятельности, минимизирующие вероятность наличия клиентов, которые потребуют включения механизма «установочной поддержки».
СТАТЬИ
Обязательство специального субъекта перед собой и его взглядами должно быть доминирующим. Выбор базовых ценностей и представлений формируется с опытом в процессе проявления различной социальной активности и предопределяет поведение человека в будущем. Такие фундаментальные убеждения являются неотъемлемой частью самореализации и самоопределения.
Выбор направления профессиональной деятельности не должен формироваться случайно. Если роль юриста будет рассматриваться только в обслуживании интересов иных субъектов, то подсознательно будут меняться личные убеждения и профессиональное поведение самого юриста, будет развиваться внутриличностный конфликт, усиливаться деформация профессионального правосознания.
Такой подход может показаться эгоистичным, но он направлен на защиту психического и физического здоровья специалистов в сфере права, преодоления деформации правосознания. Юрист только сохраняет свои взгляды, свое внутреннее «я». Такой подход гарантирует, что юрист не будет работать против своего представления о том, каким должно быть общество в идеале.
Отказываясь приводить, например, доводы в пользу несоблюдения норм охраны труда или правил противопожарной безопасности, юрист тем самым помогает обществу.
Социальная роль юристов заключается в том, чтобы защитить общественно-важные отношения, поддерживать правопорядок.
Взгляды юристов должны быть сформированными и понятными для работодателя и клиентов, нравственные и правовые противоречия не должны возникать в процессе юридической работы, создавая рабочий конфликт и риски привлечения к уголовной ответственности. Например, в ситуации, когда юрист устраивается на работу для решения корпоративных задач, а ему предлагается регистрировать общества с ограниченной ответственностью, которые образуют сомнительные финансовые схемы.
Правовые системы разных стран и само общество основаны на идее, что у человека, действительно, есть свобода выбирать различные альтернативы среди ценностей и верований. Эти положения закрепляются в конституциях и международных правовых актах.
Даже в вышеприведенном примере юриста, защищающего промышленность от ответственности, имеются альтернативные варианты обоснования принимаемых решений. Нельзя сказать, что экологическая обстановка относится к неважным факторам в формировании идей и поведения. Но вполне возможен вариант, когда юрист в системе иерархии собственных ценностей может искренне считать более важным сохранение единственного градообразующего предприятия и защиту его от банкротства.
Сложившиеся ценности могут быть продуктом воспитания, образования, социальной среды, но это не означает, что необходимо позволить всем формируемым ценностям полностью управлять профессиональной деятельностью субъекта. Основная идея в этом, чтобы приложить все усилия и выбрать то, что объективно подходит субъекту профессионального правосознания.
Применение этого принципа на практике поднимет вопрос: кто будет представлять непопулярные взгляды? И как быть адвокатам, которые в силу ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ8 не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого?
Что касается адвокатов, то можно согласиться с высказываемой позицией, которая предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и разрешить отказываться от такого представительства.
В условиях высокой конкуренции на рынке юридических услуг вряд ли с представительством возникнут проблемы. Даже если не будет адвоката, искренне одобряющего действия подзащитного, вероятно, будут адвокаты, нейтрально относящиеся к ситуации, которые будут видеть задачу не в оправдании содеянного, а в соразмерном, справедливом наказании, соблюдении прав подзащитного в процессе расследования и судебного разбирательства.
С другой стороны, формально никто не может быть уверен, что с юридической точки зрения хорошо и что плохо, пока факты не будут установлены судом.
Таким образом, деформацию правосознания предопределяют неблагоприятные экономические факторы. В целом традиционная роль юриста подчеркивает обязательства перед клиентами, работодателем и правовой системой. При этом в доктрине и практике упускается из рассмотрения проблема выполнения профессиональных обязанностей юриста, противоречащих его собственным убеждениям. Подобная ситуация оказывает деформирующее воздействие на правосознание юристов, обуславливает негативные изменения рационально-идеологических, эмоциональных, поведенческих элементов.
На основе проведенного исследования юристам предлагается выбирать профессиональные виды деятельности с учетом собственных нравственных взглядов с целью преодоления деформации профессионального правосознания. Пересмотр на различных уровнях подхода к профессиональным обязанностям юриста, позволит повысить эффективность юридической деятельности и получить более высокий социальный результат.
СТАТЬИ
Список литературы Социально-правовая обусловленность деформации профессионального правосознания юристов
- Козлова Н. Александр Бастрыкин: СКР предельно жестко подходит к привлечению к уголовной ответственности за коррупционные преступления // Российская газета. 24.07.2016. Федеральный выпуск № 7030 (162). URL: https://rg.ru/2016/07/24/bastrykin-ochishchenie-riadov-sk-i-drugih-vedomstvprodolzhitsia.html (дата обращения: 10.08.2019).
- Сауляк О. П. Правовой нигилизм как инвариант отечественного правосознания // Российская юстиция. 2009. № 9. С. 2-3.
- Федоренко М. П., Степанов К. В. К вопросу состояния законности и дисциплины в свете требований обращения Министра внутренних дел России к сотрудникам органов внутренних дел // Вестник ЮжноСахалинского филиала ДВЮИ МВД России. 2005. № 2. С. 3-7.
- Bredneva V. S., Khudoykina T. V. The Limits of the Concept "Professional Legal Awareness Deformation" from the Psychological and Legal Perspectives // The Limits of the Concept "Professional Legal Awareness Deformation" from the Psychological and Legal Perspectives // ESPACIOS. 2018. Vol. 39. Nº 27. P. 1-7. URL: http://www.revistaespacios.com/a18v39n27/18392701.html (дата обращения: 28.09.2019).
- Chemerinsky E. Protecting Lawyers from their Profession: Redefining the Lawyer's Role, 5 J. Legal Prof. 31 (1980). URL: https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3808&context=fac pubs (дата обращения: 25.09.2019).
- Daryl J. Bem, H. Keith McConnell. Testing the Self Perception Explanation of Dissonance Phenomena, 74 Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 14, № 1. P. 23-31. 1970. URL: http://dx.doi. org/ (дата обращения: 10.08.2019). DOI: 10.1037/h0020916
- Helm L. Mental Health and Legal Profession: a Preventative Strategy. Law Institute of Victoria Ltd. 2014. P. 1-12. URL: https://www.liv.asn.au/PDF/For-Lawyers/Member-Benefits-adn-Privileges/ MentalHealthReportSummary.aspx (дата обращения: 25.09.2019).
- Susan S. Silbey. Legal Culture and Legal Consciousness, Editor(s): James D. Wright. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), Elsevier, 2015, P. 726-733. URL: 10.1016/B978-0-08-097086-8.86067-5 (дата обращения: 25.09.2019). DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.86067-5(