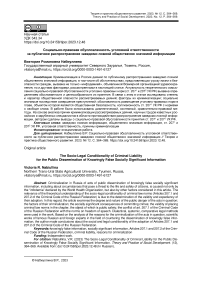Социально-правовая обусловленность уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации
Автор: Набиуллина В.Р.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
Криминализация в России деяний по публичному распространению заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, вызвана не только «инфодемией», объявленной Всемирной организацией здравоохранения, но и другими факторами, рассмотренными в настоящей статье. Актуальность теоретического осмысления социально-правовой обусловленности уголовно-правовых норм (ст. 2071 и 2072 УК РФ) вызвана определением обоснованности и целесообразности их принятия. В связи с этим в статье исследованы степень и характер общественной опасности рассматриваемых деяний; факторы их криминализации; социально значимые последствия совершения преступлений; обоснованность размещения уголовно-правовых норм в главе, объектом которой является общественная безопасность; коллизионность ст. 2071 УК РФ с нормами о свободе слова. В работе были использованы диалектический, системный, сравнительно-правовой методы. На основе анализа причин криминализации рассматриваемых деяний, научных трудов известных российских и зарубежных специалистов в области противодействия распространения заведомо ложной информации, автором сделаны выводы о социально-правовой обусловленности принятия ст. 2071 и 2072 УК РФ.
Заведомо ложная информация, общественно значимая информация, ст. 2071 и 2072 ук рф, уголовная ответственность, причины криминализации
Короткий адрес: https://sciup.org/149144635
IDR: 149144635 | УДК: 343.34 | DOI: 10.24158/tipor.2023.12.48
Текст научной статьи Социально-правовая обусловленность уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень, Россия, ,
Northern Trans-Ural State Agricultural University, Tyumen, Russia, ,
Коммуникации в цифровом пространстве являются реальной закономерностью, требующей современных подходов к правовому регулированию новых общественных отношений. Последние десятилетия социально-правовая проблема публичного распространения информации, не соответствующей действительности, представляет собой одну из угроз для государства. Активное противостояние стран, именуемое информационной «войной»1, демонстрирует тенденцию к изменению негативных характеристик содержания распространяемых сведений.
Вспышка коронавирусной инфекции, объявленная Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 г. пандемией2, стала предпосылкой распространения заведомо ложной информации о новом заболевании, о предпринимаемых государствами мерах по борьбе с ним, что повлияло на нормальную жизнедеятельность общества. Неготовность стран к подобной ситуации выразилась в отсутствии соответствующих карантинных, экономических, социальных, правовых мер. В ситуации неопределенности, когда государства принимали правовые шаги в зависимости от развивающихся событий, население стран восполняло недостаток информации о новом заболевании из всевозможных источников, что приводило к панике, тревоге, массовым волнениям, повышенной смертности.
Одним из решений возникшей ситуации явилось принятие правовых норм, устанавливающих юридическую ответственность за распространение заведомо ложной информации. В Российской Федерации с 1 апреля 2020 г. вступили в силу уголовно-правовые нормы (ст. 2071 и 2072 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)3), направленные на противодействие распространению заведомо ложной общественно значимой информации и призванные обеспечивать информационную, общественную безопасность государства. В частности, ст. 2071 УК РФ регламентирует ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, ст. 2072 УК РФ – за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия. Принимая во внимание новизну и важность для общества новых уголовно-правовых норм, представляется целесообразным исследование их социально-правовой обусловленности. Последняя рассматривается в литературе как «осознанная обществом необходимость [уголовно-правового] запрета, вытекающая из обстоятельств, условий, связанных с жизнью и отношениями людей в обществе» (Габидуллин, 2017: 36).
В целях установления социально-правовой обусловленности появления анализируемых уголовно-правовых норм исследуем совокупность факторов, способствовавших их принятию.
Предпосылки принятия новых составов преступлений по распространению заведомо ложной общественно значимой информации имелись до пандемии коронавируса. Существующих административно-правовых норм, регулирующих ответственность за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, было недостаточно. Катализатором установления в 2020 г. уголовной ответственности за преступления, предусмотренные в ст. 2071 и 2072 УК РФ, считают поддельное изображение копии приказа Министра обороны РФ «о введении в г. Москве комендантского часа». Многие были склонны верить в правдивость лжедокумента, позднее его пересылали с видеоматериалом о километровых колоннах автобусов с солдатами, направляющимися в сторону столицы, что тоже являлось ложью (Трахов, Бешукова, 2020: 79).
Пандемия коронавирусной инфекции как условие неопределенности, к которому не были готовы страны и население, повлияла не только на увеличение числа деяний по распространению заведомо ложной информации, но и на восприятие гражданами такой информации. Именно в таких условиях люди стали более чувствительными к содержанию распространяемой информации (Геляхова, 2021: 86). Когда человек перегружен сведениями, ему сложно отличить истину от лжи (De Oliveira et al., 2021). Это обстоятельство обусловлено особенностями пандемии коронавирусной инфекции, факторы которой в науке (Казакова, 2020: 289) классифицированы по сфере проявления на: социально-экономические (потеря и снижение доходов, нехватка средств на лекарства и т.д.), организационные (отсутствие алгоритма действий различных служб в режиме чрезвычайной ситуации, ограничение работы судов и т.д.), психологические (опасение за состояние здоровья, ограничение свободы из-за режима самоизоляции и т.д.). Команда ученых из Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС создала «Энциклопедию коронавирусных слухов и фейков», в которой выделено шесть типов текстов: псевдомедицинские советы, народные или религиозные рецепты, алармистские предупреждения, панические свидетельства о происходящем от первого лица, подделки официальных документов, рассказы об этиологии вируса1. Данный список может пополняться.
Масштабность публично распространяемой заведомо ложной информации была настолько велика, что единственным средством противодействия совершению деяния явилось решение законодателя криминализировать его.
Принятие новых уголовно-правовых норм обусловлено также «инфодемией»2, объявленной Всемирной организацией здравоохранения, распространявшейся не хуже пандемии коронавируса; следствием ее являлось отрицание существования коронавируса, неподчинение людей ограничениям и требованиям, установленным государством, заражение вирусом. Избыток данных и знаний – одна из характеристик информационного общества (Pulido et al., 2020).
Криминологическим основанием появления анализируемых составов преступлений (Ку-лев, Кулева, 2020: 60) обозначают фейковую информацию о пагубном влиянии COVID-19 на общественную безопасность (например, случаи передачи вируса через бананы, посылки, заказанные на китайских интернет-сайтах). Паника из-за ложной информации способна причинить не меньший вред, чем сам вирус (Пономаренко, 2021: 153). Например, пропаганда антивакцинации может привести к увеличению неблагоприятных последствий от нового заболевания или к смерти. Подобные социальные последствия создают угрозу национальной безопасности. Учитывая приведенные причины, «нельзя отрицать тот факт, что реакция законодателя была оперативной и своевременной» (Пхешхова, 2021: 478).
В науке и в обществе отмечают коллизионность ст. 2071 УК РФ с конституционными нормами о свободе слова, с международно-правовыми актами и правовыми позициями Венецианской комиссии, Конституционного Суда РФ о том, что уголовно-правовой запрет на свободу слова возможен, только когда «некие призывы сопровождаются причинением вреда или реальной угрозой причинения вреда» (Дубовиченко, Карлов, 2020: 156). Вместе с тем мнение общественности об ограничении конституционно закрепленных прав граждан на свободу слова принятыми ст. 2071 и 2072 УК РФ не соответствует нормативным правовым актам, в том числе международного характера.
Во-первых, право на достоверную информацию гарантировано законодательно (п. 6 ст. 3 Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»3). Во-вторых, реализация права на свободу мысли и слова не должна влечь нарушение прав и свобод других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации4). В некоторых случаях права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Феде-рации5). Распространение заведомо ложной информации, имеющей общественную значимость, в том числе о заболевании, представляющем опасность для окружающих, о способах лечения, о принимаемых государством мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, очевидно нарушает права других лиц и может повлиять на общественный порядок в стране. В-третьих, осуществление права свободного выражения мнения может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, общественного порядка и т.д. (ч. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (г. Рим)6). Кроме того, в УК РФ в 2020 г. криминализированы деяния по публичному распространению не любой информации, а только заведомо ложной общественно значимой, что свидетельствует о высокой степени социальной опасности деяний и необходимости наказуемости виновных, умысел которых направлен на причинение вреда интересам человека, общества, государства. Высказывание своего мнения непубличным способом ст. 2071 и 2072 УК РФ не запрещается. Криминализация рассматриваемых деяний призвана способствовать сокращению тенденции распространения заведомо ложной информации не только о коронавирусной инфекции, но и иных общественно значимых сведений, в частности, о чрезвычайной ситуации, об обстоятельствах, возникших в результате аварий, катастроф, бедствий и т.п.
Общей особенностью анализируемых уголовно-правовых норм является их информационный характер, что свидетельствует о высокой степени их общественной опасности. Так, по мнению А.А. Турышева наличие сведений в составе преступления позволяет относить его к информационному преступлению1. Под таковым А.В. Суслопаров предлагает понимать деяние, предметом которого является информация как нематериальный объект и (или) способом совершения которого выступает информационное воздействие2. В этой связи верным представляется утверждение, что назначением введенных уголовно-правовых норм является не столько противодействие распространению заведомо ложной информации о коронавирусной инфекции, сколько совершенствование борьбы с посягательствами на информационную безопасность общества в целом (Токарев, Пичугина, 2021: 165). Степень общественной опасности анализируемых преступлений определяется публичным способом совершения деяний, видом информации, распространенностью противоправного деяния, виной в форме прямого умысла на распространение заведомо ложной информации, а также угрозой причинения или причинением вреда. Публичный способ распространения информации повышает степень общественной опасности анализируемых преступлений (Пономаренко, Копшева, 2021: 202) в силу адресности информации обществу. Несмотря на принятие уголовно-правовых норм в период пандемии коронавируса, они имеют широкий диапазон вариантов их применения, что подтверждается формулировками предметов преступлений. Дефиниция «общественно значимая информация» отсутствует в законодательстве. В качестве синонима в науке используют термин «социально значимая информация». Она включает в себя любые сведения неограниченного доступа (см., например, ч. 4 ст. 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»3; ст. 7 Закона Российской Федерации № 5485-1 от 21.07.1993 «О государственной тайне»4).
Характер общественной опасности исследуемых деяний определяется общественными отношениями, выступающими в качестве объекта преступления. Социальная опасность анализируемых преступлений обусловлена значимостью охраняемого уголовным законодательством объекта – общественной безопасности, основные принципы которой содержатся в Федеральном законе «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390–ФЗ5. Понятие общественной безопасности дефинируется также в «Концепции общественной безопасности в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 14.11.2013 № Пр–2685, суть которой заключается в обеспечении государством защищенности человека и общества от противоправных посягательств и чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, под общественной безопасностью понимается состояние защищённости человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера6.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции одним из направлений уголовно-правовой политики государства являлось обеспечение информационной безопасности общества как составляющей общественной безопасности. Кроме того, специфика заведомо ложной информации, предусмотренная в анализируемых статьях УК РФ, характеризуется ее значимостью для общества. Так, сведения об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 2071 УК РФ), являются частью заведомо ложной общественно значимой информации (ст. 2072 УК РФ). Данное обстоятельство подтверждает корректность размещения законодателем рассматриваемых преступлений в главе 24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности».
В основе процесса криминализации деяний лежит многофакторная зависимость (Прозу-ментов, 2012: 139). Необходимо признать, что в результате распространения заведомо ложной общественно значимой информации нарушаются устои сложившейся системы социально значимых связей граждан, общественный порядок, дестабилизируется работа государственных и правоохранительных органов, причиняется вред здоровью и жизни людей. Например, отрицание существования коронавирусной инфекции и призыв не соблюдать ограничительные меры в период пандемии приводили к росту заболеваемости и смертности, к необходимости применения дополнительных способов контроля за соблюдением карантинных мер населением.
С учетом изложенных обстоятельств введение уголовно-правового запрета публичного распространения заведомо ложной общественно значимой информации оправдано. Социальноправовая обусловленность криминализации исследуемых преступлений выражается в учете влияния следующих факторов: высокой степени общественной опасности рассматриваемых деяний, тенденции к распространению в обществе, нарушения прав граждан на достоверную информацию, специфики ее трансляции и репрезентации, публичного способа распространения, включающего, в том числе, использование информационных технологий, Интернета; нарушения или угрозы нарушения общественной и национальной безопасности; социально значимых последствий совершения преступлений, которые усугубляются в условиях состояния неопределенности (например, в период пандемии коронавируса, когда никто не был готов к ней).
Список литературы Социально-правовая обусловленность уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации
- Габидуллин Э.С. Социальная обусловленность как основание уголовно-правового запрета // Журнал правовых и экономических исследований. 2017. № 4. С. 32-37.
- Геляхова Л.А. Распространение заведомо ложной информации: вопросы привлечения к ответственности // Актуальные вопросы науки. Пенза, 2021. С. 85-87.
- Дубовиченко С.В., Карлов В.П. Уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации (ст.ст. 207.1, 207.2 УК РФ) // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2020. Т. 1, № Э (96). С. 154-163.
- Казакова В.А. Криминальные аспекты коронавирусной пандемии // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2020. № Э (836). С. 288-294.
- Кулев А.Г., Кулева Л.О. Уголовно-правовые новеллы в сфере охраны общественной безопасности (ст. 207.1, 207.2 УК РФ) // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2020. № 4 (78). С. 59-64.
- Пономаренко Е.В. Уголовное законодательство Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) // Развитие наук антикриминального цикла в свете глобальных вызовов обществу. Саратов, 2021. С. 150-155.
- Пономаренко Е.В., Копшева К.О. Обоснованность криминализации деяний, связанных с распространением заведомо ложной общественно значимой информации // Правовая политика и правовая жизнь. 2021. № 2. С. 199-204. https://doi.org/10.24412/1608-8794-2021 -2-199-204.
- Прозументов Л.М. Обусловленность криминализации и декриминализации деяний // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. 2012. Т. 8, № 2. С. 138-141.
- Пхешхова И.М. Социальные, теоретические и правовые предпосылки криминализации публичного распространения заведомо ложной информации (статьи 2071, 2072 УК РФ) // Эффективное противодействие преступности в условиях глобализации: проблемы и перспективы. Краснодар, 2021. С. 474-483.
- Скороходова Н.П. Россия как объект информационной войны Запада // Запад - Восток - Россия. 2017. М., 2018. С. 45-49.
- Токарев Д.С., Пичугина К.Э. Применение норм уголовного законодательства об ответственности за распространение заведомо ложной информации, представляющей угрозу общественной безопасности // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 2 (30). С. 164-168.
- Трахов А.И., Бешукова З.М. Распространение заведомо ложной информации (ст. 207.1 и 207.2 УК РФ): новые составы преступлений с признаком публичности // Теория и практика общественного развития. 2020. № 6 (148). С. 78-82. https://doi.org/10.24158/tipor.2020.6.13.
- De Oliveira N.R., Pisa P.S., Lopez M.A., de Medeiros D.S.V., Mattos D.M.F. Identifying Fake News on Social Networks Based on Natural Language Processing: Trends and Challenges // Information. 2021. Vol. 12, iss. 1. Р. 38. https://doi.org/10.3390/info12010038.
- Pulido C.M., Villarejo-Carballido B., Redondo-Sama G., Gomez A. COVID-19 Infodemic: More Retweets for Science-Based Information on Coronavirus than for False Information // International Sociology. Vol. 35, iss. 4. P. 377-392. https://doi.org/10.1177/0268580920914755.