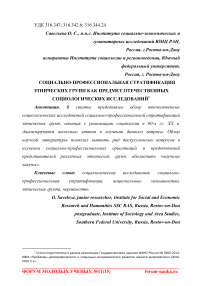Социально-профессиональная стратификация этнических групп как предмет отечественных социологических исследований
Автор: Савельева О.С.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 11 (15), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен обзор отечественных социологических исследований социально-профессиональной стратификации этнических групп, начиная с реанимации социологии в 60-х гг. XX в. Анализируются несколько этапов в изучении данного вопроса. Обзор научной литературы позволил выявить ряд дискуссионных вопросов в изучении социально-профессиональных ориентаций и предпочтений представителей различных этнических групп, обозначить «научные лакуны».
Социологические исследования, социально-профессиональная стратификация, национальные меньшинства, этническая группа, неравенство
Короткий адрес: https://sciup.org/140277394
IDR: 140277394
Текст научной статьи Социально-профессиональная стратификация этнических групп как предмет отечественных социологических исследований
Важнейшей составляющей социальной организации является социальная стратификация как дифференциация некой данной совокупности людей на классы в иерархическом ранге. Для выделения социальных слоев в современном российском социуме применяются различные статусные переменные. При этом с завидным постоянством ведущим критерием социальной дифференциации остаются профессиональные признаки.
Основные методологические принципы исследования профессиональной дифференциации общества были заложены П. Сорокиным, который выделял три основные формы стратификации: экономическую, политическую и профессиональную. По мнению Сорокина, профессиональная стратификация проявляет себя в двух основных формах: в форме иерархии основных профессиональных групп (межпрофессиональная стратификация) и в форме стратификации внутри каждого профессионального класса (внутрипрофессиональная стратификация) [6, c. 353].
Современные отечественные исследователи также выделяют профессиональные признаки при изучении социокультурных характеристик личности и ее социального положения. Так, Т.И. Заславская для идентификации социальных слоев современного российского общества применяет следующие статусные переменные: основное занятие, основной род деятельности, отрасль занятости, сектор экономики, размер организации, профессионально-должностное положение, уровень образования, самооценка квалификации, уровень доходов [3, c.10].
По мнению Радаева В.В. и О.И. Шкаратана, социальнопрофессиональное деление является одной из базовых стратификационных систем. При этом важно замечание исследователей, что социальнопрофессиональная иерархия в виде официально закрепленного разделения труда не только играет самостоятельную роль, но и существенно влияет на структуру практически любой другой стратификационной системы [5, c.54].
Особый интерес вызывает социальная стратификация на пересечении двух оснований: род занятий и принадлежность к определенному этносу. В исследованиях социально-профессиональных ориентаций и предпочтений различных этнических групп в отечественной социологической науке на протяжении с 60-х гг. XX века можно выделить два этапа:
-
1. исследования собственно социально-профессиональных различий представителей различных этнических групп;
-
2. в рамках этностратификационных исследований.
Интерес к профессиональным ориентациям различных этнических групп изначально был связан с полиэтничностью большинства республик, что определяло необходимость учета этнического фактора при исследовании особенностей социальных изменений. С реанимации социологии в 60-х гг. XX в. данная проблематика входила в число основных направлений исследований. Большой вклад в изучение данного вопроса внесли такие известные социологи, как Ю.В. Арутюнян, И.С. Кон, О.И. Шкаратан, Л.М. Дробижева [4, c.36].
В конце 60-х гг. научные группы под руководством Ю.В. Арутюняна и О.И. Шкаратана провели исследование социальной структуры народов, включая анализ «внутриклассовых» изменений, выделение групп по характеру труда, выяснение темпов межпоколенной и внутрипоколенной мобильности. Первой обобщающей работой в этом направлении стала работа «Социальное и национальное» по результатам исследования в Татарии [7].
Интересные выводы были сделаны по результатам проекта под руководством Ю.В.Арутюняна «Оптимизация социально-культурных условий развития наций», проводимого Институтом этнографии АН СССР в 70–80-е гг. В ходе него был проведен многофакторный анализ, исследовалось большое количество факторов, которые могут оказывать влияние на межэтнические установки и ориентации. Социальная мобильность, удовлетворенность трудом, социально-конкурентные условия стали одними из наиболее значимых факторов наравне с культурной замкнутостью и традиционными видами солидарностей. Исходя из этого этническая интолерантность была выявлена в двух условно противоположных группах. С одной стороны, среди представителей образованных слоев, которые, попав в конкурсные условия, понизили свой социальный статус в процессе трудовой деятельности или по сравнению с родителями. С другой, среди малоквалифицированных, малооплачиваемых работников, зачастую недавних сельских жителей. Эти два типа этнической интолерантности были названы авторами проекта социально-конкурсным и традиционалистским [4, c. 38].
Ленинградские исследователи изучали как исторические предпосылки складывания этносоциальной структуры города, так и современные тенденции. Н.В. Юхнева при исследовании этнического состава сословных и социально-профессиональных групп в качестве факторов, определяющих социальную структуру национальных групп, акцентировала внимание на особенностях социального развития наций и народностей в целом (доля сословий), возможностях миграции, административно-правовых ограничениях (например, в отношении евреев, поляков), потребностях в тех или иных видах труда в городе. При этом автор пришла к выводу, что зачастую на выбор профессии оказывало влияние различие в ценностных ориентациях. Русская интеллигенция предпочитала государственную и общественную (земскую) службу, интеллигенция прибалтийского и германского происхождения чаще находила себя, занимаясь частной практикой, и была в большей степени буржуазной. Этнические традиции и земляческие связи способствовали выбору определенных видов труда [11].
В качестве важнейшего этносоциального показателя рассматривалась социально-профессиональная структура Г.В. Старовойтовой [9]. В том числе она пришла к выводу, что, несмотря на то, что языковой барьер сдерживает рост образовательного уровня, это не оказывает существенного влияния на социальную мобильность членов этнодисперсной группы. Это связано с тем, что «пробел в образовании» компенсируется другими факторами, стимулирующими продвижение по социальной лестнице (например, влиянием крупного промышленного и культурного центра, большим выбором мест учебы и профессиональной деятельности и, наконец, «престижностью» образования в новой среде и т. д). При этом эмпирическое исследование показало, что социально-профессиональная структура всех этнодисперсных групп оказалась схожа со структурой населения города в целом. В обоих случая были представлены квалифицированные рабочие, инженерно-техническая интеллигенция, научные работники. Причем уровень образования у жителей Ленинграда зачастую оказывался выше, чем у представителей соответствующих народов в среднем по стране. Нередко здесь были выше и темпы вертикальной социальной мобильности, чем в городах, являющихся основной этнической территорией.
В 70-80-е гг. однотипность социально-профессиональных структур этнодисперсных групп и населения города была признана основой межэтнической интеграции, что соответствовало идее сближения народов, выравнивания уровня их социально-экономического и культурного развития, декларируемой государством. Выводы социологов того времени заключались в том, что в СССР происходило сближение наций, в том числе увеличение сходства в их социальной структуре. В частности было зафиксировано снижение различий между народами по доле населения, занятого умственным трудом, в городской и сельских средах. Отмечались изменения в группах интеллигенции: в 50-е гг. превалировала управленческая и массовая интеллигенция (учителя, врачи), в 70–80-е гг. формировалась производственная и росла научная и художественнотворческая интеллигенция, которая впоследствии сформировала элиту и стала выразителем национальных интересов. Это было достигнуто благодаря повышенной социальной мобильности представителей титульных наций республик и являлось результатом политики «сближения наций». При этом уже тогда отмечался избирательный характер каналов этой мобильности (управление, торговля и т.д.) Этносоциологи на основе анализа конкретного эмпирического материала показали, что сходство в социальноэкономических параметрах контактирующих этносов, особенно движение к такому сходству, совсем не всегда ведет к улучшению межэтнических отношений, между ними может возникнуть конкурентная среда, и она может быть напряженной.
С начала 90-х гг. отечественные исследователи затрагивают различные аспекты социально-профессиональных ориентаций и предпочтений этнических групп в рамках этностратификационной проблематики. В частности признается многомерность этносоциальной стратификации и одними из базовых элементов указываются характер и сфера занятости, доступ к власти представителей различных этнических групп (А.А. Празаускас, В.И.Ильин, Г.Г. Котожеков, Т.Р. Каллимулин, Р.Р. Галлямов, Н.А. Аитов, Белозеров B.C. и др).
Одной из значимых работ в рамках рассматриваемой проблематики является монография «Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность», посвященная итогам проекта «Социальное неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Российской Федерации» под руководством Л.М. Дробижевой [8]. В данном исследовании в том числе проводился анализ социально-профессиональной стратификации этнических групп как базовой характеристики межэтнической интеграции.
Авторы пришли к ряду интересных выводов:
-
• Анализ динамики социально-профессионального состава ряда этнических общностей России за три последних десятилетия до начала реформ показал, что происходило сокращение социальной дистанции между этническими группами, живущими как в одной, так и в разных республиках. При этом сохранялись или даже возрастали по некоторым показателям различия в статусных позициях различных национальностей.
-
• Существующие особенности в социально-профессиональном и отраслевом составе этнических групп оказывали влияние на формирование неравных возможностей для адаптации к новым условиям, вхождения в рыночную экономику.
-
• Наиболее заметные различия в социально-профессиональном составе титульных национальностей российских республик наблюдались прежде всего в разной представленности среди них работников высших страт, в том числе государственной номенклатуры, политической и культурной элиты, что говорило о наличии неодинаковых условий у представителей тех или иных этнических общностей для выработки стратегии развития, формулировании своих национальных интересов.
-
• Корреляция социальных статусов представителей титульной и русской национальности, живущих на одной территории, заметно различалась по республикам. На фоне экономической неоднородности
регионов это приводило к миграции русских, что оказывало влияние на социально-профессиональный и отраслевой состав населения и межнациональные отношения.
-
• В период экономических проблем возрастала дистанцирующая роль отраслевой специализации этнических общностей. Новые рыночные структуры также становились полем этнической конфронтации. Особенно сильно национальные интересы по понятным причинам сталкивались в сфере управления.
-
• Рост уровня образования, характерный для представителей всех этнических общностей, чаще всего не совпадал с потребностью рынка труда в высокообразованных работниках. Это приводило к неудовлетворительной реализации образовательного потенциала населения, что логично перетекало в конкуренцию между этническими общностями, разделяющими одну территорию [8].
Стоит заметить, что многие выводы, сделанные авторами в начале 2000-х годов, не потеряли свою актуальность и в наше время.
Обзор научной литературы также позволяет выделить региональный срез в исследовании обозначенной тематики. На материалах северокавказских республик этносоциальные проблемы изучались в работах В.А. Авксентьева, B.C. Белозерова, Г.С. Денисовой, А.Б. Дзадзиева, А. Дугина, Ф. Кисриева, Э.А. Паина, Э.Х. Панеш, М.В. Саввы, Г.У. Солдатовой,.Р.А. Ханаху, А.Ю. Шадже, С.А. Ляушевой и т.д. Затрагивали в своих исследованиях особенности экономической деятельности, социальноэкономической адаптации кавказских диаспор на Юге России С.Я. Сущий, Г.С. Денисова, Ю.В. Арутюнян. Наиболее глубокую теоретическую и практическую разработку получили вопросы, связанные с изучением динамики экономической деятельности армянской диаспоры. Так, Ю.В. Арутюнян в ходе исследования приходит к выводу, что активная экономическая деятельность армян в сочетании с высокой адаптированностью к рыночным условиям способствовали повышенному в сравнении с коренным большинством материальному достатку армянского населения. Это отчасти было связано с тем, что в Россию в свое время устремилась достаточно конкурентоспособная часть армян. Исследуя социально-профессиональные группы армян в Краснодаре, Ю.В. Арутюнян констатирует, что по сравнению с доминирующим русским населением, в группах квалифицированного труда были представлены в достаточно весомых пропорциях [1].
Большое исследование армянского опыта интеграции в принимающее общество было проведено Г.С. Денисовой. Изучая социальноэкономическую адаптацию мигрантов, она приходит к выводу, что представители армянской диаспоры заняты в основном в частной сфере, где реализуется ресурс их предпринимательской активности: «Большинство из них можно с уверенностью отнести к типу прирожденных предпринимателей» [2, с.150]. То есть Г.С. Денисова, как один из факторов доминирования представителей этнической группы в определенной экономической нише видит в предрасположенности к определенному виду деятельности.
Анализ представителей народов Кавказа в статусных социопрофессиональных сообществах Юга России представлен в работах С.Я. Сущего. В связи с закрытым характером информации о национальной структуре учреждений и организаций, им предложен был инновационный методический подход - анализ именных данных персонала, что представляется вполне оправданным, так как имена и фамилии представителей кавказских этнических групп отличаются высокой спецификой. В ходе своего исследования С.Я. Сущий приходит к выводу, что происходит расширение и трансформация исходной социопрофессиональной структуры южнороссийского кавказского населения, пополняющего ряды управленцев, депутатов и сотрудников правоприменительных и правоохранительных органов, занятых в науке, высшей школе и системе здравоохранения. Вследствие этого торговопосреднический «уклон» многих кавказских общин начинает смещаться в сторону освоения новых для них социальных и производственных ниш. Таким образом, происходит этническое изменение кадрового состава статусных профессиональных сообществ Юга России [10].
Обзор научной литературы позволяет сделать вывод, что ряд аспектов заявленной темы носит дискуссионный характер: на сегодняшний день отсутствует однозначное представление о тенденциях динамики социально -профессиональной структуры этнических групп в России в целом и в контексте территорий с разной степенью развитости инфраструктуры. В более подробном социологическом осмыслении нуждаются факторы, влияющие на процесс представленности определенных этнических групп в различных социально-профессиональных сообществах. Отдельно стоит заметить, что в научной литературе практически отсутствуют количественные данные по данному вопросу, что связано с закрытым характером информации о национальной структуре учреждений и организаций. Этот факт, в том числе, объясняет малое количество исследований в рамках данной проблематики.
Список литературы Социально-профессиональная стратификация этнических групп как предмет отечественных социологических исследований
- Арутюнян Ю.В. Армяне-россияне (по материалам этносоциологического исследования) // Армяне юга России: история, культура, общее будущее: мат-лы Всерос. научн. конф. (30 мая - 2 июня 2012 г., Ростов-на-Дону) / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. Ростов н/Д, 2012. С. 22-27.
- Денисова Г.С. Конфликтогенность социокультурного пространства Ростовской Области. - Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2007. - 224 с.
- Заславская Т.И. Социоструктурный аспект трансформации российского общества // Социологические исследования. 2001. № 8.
- Михайлова Е.А. Этнические стереотипы в системе этносоциальной стратификации Астраханской области: монография / Е.А.Михайлова - СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2011 - 186 с.
- Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учеб. пособие. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 318 с.
- Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
- Социальное и национальное. Опыт этносоциологических исследований по материалам Татарской АССР. М.: Наука, 1973.
- Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность / Авт. проекта и отв. ред. Л.М. Дробижева. - М.: Academia, 2002. - 480 с.
- Старовойтова Г.В. Этническая группа в современном советском городе: Социологические очерки. - Л.: Наука, Ленинград. отд., 1987. - 124 с.
- Сущий С.Я. Представители народов Кавказа в статусных социопрофессиональных сообществах Юга России: тенденции постсоветского периода // Социологические исследования. №5. 2017. С. 3-16.
- Юхнева Н.В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга. Вторая половина XIX-начало ХХ века: Статистический анализ. - Л.: Наука, Ленингр. отд., 1984. - 145 с.