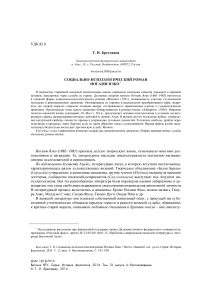Социально-психологический роман Ногами Яэко
Автор: Бреславец Татьяна Иосифовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
В творчестве старейшей японской писательницы нашли отражение ключевые события японской и мировой истории, переданные через судьбы ее героев. Духовные искания юности Ногами Яэко (1885−1985) воплотила в сложной форме социально-психологического романа «Матико» (1931), посвященного участию студенческой молодежи в революционном движении. Разочарование ее героини в радикальном преобразовании мира, неприятие ею «новой морали» отразили позицию автора, отстаивающего нравственные идеалы и гуманистические принципы. Продолжение темы левого движения обнаруживается в романе-эпопее «Лабиринт» (1956). Широкое полотно японской жизни охватывает 30−40-е гг. ХХ в., представляет искания интеллигенции в условиях милитаризации страны, развертывания военных действий в странах Азии. В романе звучит осуждение войны, утверждение внутренней свободы личности, призыв к сохранению духовных ценностей. В поисках свободы, пройдя через испытания и преграды, через борения духа, ее герои обретают смысл существования. Верная правде жизни писательница убедительно воссоздаеттрагическую судьбу Японии.
Современная японская литература, революционное движение, вторая мировая война, судьбы молодежи, роман-эпопея
Короткий адрес: https://sciup.org/147219067
IDR: 147219067 | УДК: 82.0
Текст научной статьи Социально-психологический роман Ногами Яэко
Ногами Яэко (1885-1985) прожила долгую творческую жизнь, отмеченную многими достижениями и наградами. Ее литературное наследие писателя-реалиста неизменно вызывает интерес исследователей и переводчиков.
По наблюдению Кумасака Ацуко, литературная эпоха, в которую вступила писательница, характеризовалась рядом художественных явлений. Творческое объединение «Белая береза» ( Сиракаба ) утвердилось в концепции идеализма, группа эстетов ( Юибиха ) выдвинула принцип эстетизма, сообщество писателей-неореалистов ( Сингэндзицуха ) выступило под лозунгом интеллектуализма. Вся эта разнообразная литература была порождена идеями либерализма и демократии, она стала свободным выражением самосознания индивида как автономной личности. В литературный процесс включились и женщины. Кроме Ногами Яэко, можно назвать Таму-ра Аяко, Мидзуно Сэнко, Сасаки Фуса, Такано Цуги, Окада Ятиё и др.
В женской литературе они излагали собственный жизненный опыт, с присущей им субъективной утонченностью обнажали скрытые горести и радости женской судьбы, обращались к критике старой морали, описывали любовные отношения и брачные союзы – всю амплиту- ду душевного состояния женщины. Их героини предавались всепоглощающей страсти, открывая красоту чувственного влечения [Тайсё-но дзёси кёику, 1975. С. 289-290].
В отличие от многих Ногами Яэко не ограничилась бытописательством, а создала серьезный социально-психологический роман, насыщенный актуальными проблемами современности, исторически значимыми конфликтами, общественно-политическими событиями. Этот тип романа утвердился и развивался в ее литературе, обретая дополнительные качества историзма и психологизма, и был представлен двумя сочинениями – «Матико» («Матико», 1931) и «Лабиринт» («Мэйро», 1956). «Матико» является первым романом Ногами Яэко, его героиня, Сонэ Матико, в столкновении с действительностью обнаруживает несправедливость жизненного устройства – неравенство разных слоев общества. Изучая в университете социологию, посещая лекции в качестве вольного слушателя, она приходит к постижению сущности общественной организации, начинает испытывать стремление к переустройству социума.
Матико 24 года, она молода, красива, талантлива и независима. Ее отец был высшим чиновником, но его уже нет в живых, и семья обеднела. Две старшие сестры вышли замуж, а девушка осталась с матерью, которая настаивает на замужестве Матико, но та отвергает традиционную возможность «брака по сговору», считая ее унизительной.
Ее привлекает молодой человек Сэки Сабуро, отстаивающий интересы крестьянства. Он участвует в революционном движении, исключен из университета за левые взгляды. Девушка, воспитанная в буржуазной среде, ощущает ее чужеродность, стремится вырваться из круга сословных ограничений, навязанных ей стереотипов классового сознания. Она ищет новые идеалы и презирает свою семью с ее традиционно-обывательскими взглядами, утратой нравственных ценностей. Этим обусловлен ее интерес к учению марксизма и борьбе пролетариата, развернувшейся в Японии. По замечанию Сакасаи Хисако, любовь девушки к Сэки – это не более чем «слепое следование идеологии, идолопоклонство, желание приблизиться к авторитету» [1992. С. 216].
Матико настаивает на браке с Сэки, который первоначально ее отвергает, полагая, что «пролетарское сознание – это голос крови», а Матико таковым обладать не может в силу своего происхождения. Тем не менее, видя ее преданность делу революции, решительность и целеустремленность, он в конце концов соглашается. Однако, узнав о близости Сэки с ее университетской подругой Оба Ёнэко, Матико расстается с ним накануне свадьбы. Она размышляет о том, что для нее были притягательны только его идеи, желание изменить свою жизнь, а истинного чувства к нему она не испытывала, находясь в плену ложных представлений и слепых убеждений. Пробужденное сознание Матико позволяет ей увидеть несостоятельность и безответственность Сэки: он отказывается быть отцом своему ребенку, которого ждет Ёнэко. В связи с этим Матико выражает сомнение в торжестве марксистских идей, в реальности справедливого общественного устройства. Героиня видит, что в революционной практике не выбирают средств для достижения целей и во имя освобождения человечества приносят бесчисленные человеческие жертвы. Ее настигает глубокое разочарование.
Критик Сэнума Сигэки предлагает посмотреть на роман «Матико» как на воплощение романтической темы «революция и любовь», при этом развертывание темы любви выступает способом организации сюжета в произведении [Ногами Яэко, 1976. С. 528].
В романе рассматривается концепция «новой женщины», которую активно выдвигала А. М. Коллонтай (1872-1952) в статье «Новая женщина» (1913). Известен термин коллонта-изм, или «красная любовь». С именем Александры Коллонтай связывают теорию «стакана воды» - взгляды на любовь, брак и семью, определяемые марксисткой идеологией. Об отмирании буржуазной семьи, обобществлении семейного хозяйства писал Ф. Энгельс (1820-1895) в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884). Это отмечено также в «Манифесте Коммунистической партии» (1848). Теория «стакана воды» уподобляет отношения мужчины и женщины простому утолению жажды.
Развивая идеи марксистского феминизма, Коллонтай опубликовала сборник статей «Новая мораль и рабочий класс» (1919), а позднее ‒ статью «Дорогу крылатому Эросу!» (Письмо к трудящейся молодежи, 1923) и др. Этим идеям Коллонтай посвятила также свою беллетристику – повести и рассказы: «Революция чувств и революция нравов» (1923), «Большая любовь» (1927) и др.
В полемике с коллонтаизмом японская писательница настаивает на том, что отсутствие обязательств сторон приводит к нравственной деградации общества, делает уязвимым положение женщины, пропагандирует неуважение к ее личности. Любовный аспект межличностных отношений внес в произведение Ногами Яэко черты идейно-бытового романа ( сисо фуд-зоку сёсэцу ).
Сэки считает, что у революционера не должно быть семьи, он не вправе брать ответственность за воспитание своих детей. Мужской эгоизм он прикрывает демагогическими разговорами об «индивидуалистическом заблуждении». Матико обвиняет Сэки в страданиях Ёнэко, и «в ее голосе звучит ненависть не только ее, но и всех женщин:
- Ты считаешь, что женщина может быть матерью-одиночкой? Хочешь сказать, что она сама виновата, а ты тут ни при чем? Неужели ты такой трус? Говоришь, что любил Ёнэко только как старший брат – тем более трус! <…> Сэки-сан, если ваше движение существует не для того, чтобы уничтожить бедность и избавить людей от страданий, то чем, в конце концов, оно является? Каким бы прекрасным ни было устройство будущего общества, но пока в нем страдает хоть один человек, оно несовершенно так же, как несовершенен современный мир, страдающий от недостатка хлеба и одежды» [Ногами Яэко, 1976. С. 451]. С гуманистических позиций Матико высказывает мысль о невозможности построить новое общество силами таких, как Сэки, который не уважает человека и не сочувствует ему. Матико охватывает «гнев, она испытывает сложное, необъяснимое чувство горького сожаления и отвращения» [Там же. С. 451].
Своенравная и эмоциональная, молодая героиня находится в плену противоречивых мыслей и чувств. Она проходит путь взросления, обретая способность критически оценивать действительность. Об идейной направленности романа автор писала в предисловии к изданию 1952 г.: «Мысль героини о том, что участие в левом движении не поможет построению всеобщего счастья и не будет способствовать распространению новой общественной морали, является моим личным убеждением, и это я хотела выразить в романе» [Ногами Яэко, 1974. С. 4].
Противопоставляя Ёнэко чистую и возвышенную Матико, писательница пыталась выяснить причины обращения благородной девушки к левому движению и объясняла их идеализмом юности [Ногами Яэко, 1976. С. 528]. Ёнэко предстает деятельным человеком, на практике осуществившим свои стремления. Она оставляет свою семью, прекращает учебу в университете, самостоятельно зарабатывает на жизнь и всецело посвящает себя общественному движению. Она и знакомит Матико с Сэки.
Вскоре Матико встречает состоятельного молодого человека Каваи, принадлежащего к старинному роду. Он окончил университет в Кембридже, посвятив себя изучению археологии, и является владельцем предприятия. Когда рабочие на его предприятии объявили забастовку, он обсудил ситуацию с их представителем и, пойдя на компромисс, признал право рабочих участвовать в управлении компанией. Только расставшись с Сэки, Матико смогла оценить достоинства Каваи - его справедливость, сочувственное отношение к рабочим. Она ощутила к нему «скрытое чувство любви» и вышла за него замуж.
Эномото Ёсико сравнивает роман «Матико» с произведением Джейн Остин (1775-1817) «Гордость и предубеждение» (1813), с которым Ногами Яэко познакомилась в юности [Остин, 2009]. Позднее она писала о том, что вызвало ее восхищение при чтении романа: отсутствие сентиментальности, чувство юмора, простота и ясность стиля, захватывающий сюжет и сильные характеры. Элизабет Беннет была близка ей по духу как «предшественница новой женщины». Элизабет и Матико отказываются от брака по расчету и первоначально ошибочно судят о своих будущих мужьях. Как Элизабет поняла и оценила Дарси, так и Матико со временем обратила внимание на Каваи [Fairbanks, 2002. P. 273-274]. Многочисленность реминисценций из романа Джейн Остин в произведении японской писательницы отметила также Ватанабэ Сумико [Дзёсэй бунгаку, 2000. С. 230].
С «Матико» можно сопоставить и роман Миямото Юрико «Нобуко» («Нобуко», 1926), который пролетарская писательница посвятила исканиям современной женщины [Миямото Юрико, 1984]. В исходной позиции обе героини идентичны – они образованны, умны, честолюбивы, однако дальше их пути расходятся. Матико, пройдя ради возлюбленного испытание революционной борьбой, познав нужду, голод, тюремное заключение, разочаровывается в светлом будущем человечества. Ее либеральные взгляды и нравственные ценности не нашли поддержки в марксистской идеологии, в среде ее представителей. Нобуко, напротив, полна оптимизма, она находится в начале пути и готова преодолеть преграды. На протяжении всего романа происходит ее изнурительная борьба с семьей, которую она, наконец, покидает, чтобы увидеть воплощение своей мечты в Советском Союзе.
Ябу Тэйко, сравнивая романы, отмечает их различия. В «Нобуко» выражено опьянение любовью и страдание героини, достоинством романа является его страстность. В «Матико» писательница сосредоточена на «познании» мира молодой женщиной новой эпохи. Об этом можно судить, исходя из вещественного значения имени героини Ма-ти-ко, где ма - «истина», а ти - «знание». В чем же «истинное знание»? Роман представляет его в развернутом сюжете, и о Матико говорится как о «молодом деревце, которое тянется к свету, пройдя сквозь многие испытания» [Ябу Тэйко, 2009. С. 162-163].
По замечанию Кэрол Фэрбенкс, роман «Матико» часто сравнивают с романом Миямото Юрико «Нобуко», поскольку оба произведения обращены к проблемам молодых женщин, вызванным лимитированным положением женщины в японском обществе, что определялось традиционной практикой [Fairbanks, 2002. P. 271]. Ногами Яэко была убеждена, что духовные искания ее героини, раскрытые в социально-психологическом романе, близки не одному поколению женщин, стремящихся к самоутверждению и раскрепощению своего сознания [1974. С. 4].
Роман был написан в период распространения идеологии марксизма в японском обществе. В стране наблюдался подъем революционного движения, возникло студенческое Марксистское общество изучения искусства, и многие молодые люди были вовлечены в левую организацию. Ногами Яэко тревожила судьба молодого поколения, охваченного революционным порывом, волновал эмоциональный всплеск не окрепшей духом молодежи, питаемой романтическими стремлениями, несбыточными идеалами. Показав настроения молодежи, она затронула актуальные проблемы современности и, по выражению критика Сэнума Сигэки, «создала произведение, которое оказало глубокое впечатление на нас, молодых людей того времени» [Ябу Тэйко, 2009. С. 164].
По мысли Аоки Митико, роман утвердил репутацию Ногами Яэко как «одного из наиболее интеллектуальных и гуманистических писателей своего времени» благодаря освещению в нем вопросов, связанных с самоутверждением и самоидентификацией личности, а также раскрытию глубоких социальных проблем и протестного движения, вызванного полицейским контролем над инакомыслием [Fairbanks, 2002. P. 273].
В обстановке репрессивных действий властей Ногами Яэко в 1937 г. начала публикацию романа «Лабиринт» [1965], который был удостоен литературной премии Ёмиури (1957). Автор знакомит читателя со знаменательными событиями в истории Японии, «эпохой мрака» -военного времени, с ее культурой, бытом, обычаями, социальными и национальными особенностями. По наблюдению Мак-Клейн Ёко, в романе «Лабиринт» присутствует интеллектуальная глубина, которая проявляется в дискуссиях о политике, идеологии, религии и классической литературе [Ibid. P. 275].
В романе-эпопее развивается тема молодежи, ее идейных и нравственных исканий в лабиринте жизненных обстоятельств и общественно-политических сдвигов. По мысли Сэнума Сигэки, автор вместе с молодым поколением преодолевает смутное время и подвергает резкой критике действия господствующих классов, которые привели страну к разрухе [Ногами Яэко, 1976. С. 523]. Портреты японских лидеров она рисует неприглядными красками. В этой когорте представлен политический делец Таруми, финансовый магнат Масуи, сторонник агрессивной политики граф Эдзима Хидэмити, недалекий виконт Ато.
Герой романа Канно Сёдзо, представитель старинной семьи, участвовал в левом студенческом движении, был увлечен марксистскими идеями, но в результате полицейских репрессий отказался от своих убеждений и целей. В силу слабохарактерности, неустойчивости своего мироощущения он вступил на путь примиренчества в условиях реакционного режима. Окружающие его презирают, он глубоко переживает свое поражение, ощущает себя опустошенным, сломленным человеком, разочарованным в общественных идеалах.
Канно не приемлет войны, он придерживается пацифистской позиции, не желая ничего знать о войне. Попав на фронт, Канно переносит все тяготы военной службы, видит преступ- ления, совершаемые на китайской земле, в которых он участвует, и начинает осознавать неизбежность поражения Японии. Эта часть «Лабиринта» сопоставима с романом Нома Хироси (1915-1973) «Зона пустоты» («Синку титай», 1952), в котором рисуется жестокий мир японской казармы, опустошающий душу [Нома Хироси, 1960].
Перед Канно обнажается кровавый смысл войны, и он готовится к сопротивлению, размышляя над тем, как совершить побег. Канно полон желания влиться в ряды борцов против японского милитаризма. Автор показывает многогранность натуры своего героя – от конформизма и безволия до решительности и целеустремленности в желании обрести свободу. Однако его цель оказалась неосуществимой в силу конкретно-исторических обстоятельств. В юности были разрушены его идеалы, а затем была отнята и жизнь.
Каждый из персонажей романа противостоит социально ограниченным нормам существования, ищет свой путь к свободе, преодолевая навязанные социумом нормы, ценности и законы.
Образом надежды в романе становится героиня Марико, жена Канно Сёдзо, благодаря которой он смог подняться со дна застойной жизни. Ее светлый облик выписан как традиционный идеал японской женщины, хотя она родилась от смешанного брака японца и шотландки. Она тиха, скромна, но тверда духом. Неуклонно отвергая женихов, которых ей навязывают родственники, она отстаивает свою независимость, протестуя против «брака по сговору». Она хочет быть самостоятельной, жить своим трудом, как трудились в Америке ее родители. Марико осталась сиротой в возрасте шести лет и была привезена в Японию, где воспитывалась в доме дяди, Масуи Рэйдзо.
Ее мечты были непритязательными – жить в провинции, обучать детей, встретить свою любовь. Искренняя и непосредственная, она страдает от столкновения с грубой действительностью, ее непримиримыми противоречиями, наивно задаваясь вопросом: почему жизнь в достатке не приносит удовлетворения и счастья? Дисгармония мира, «противоречие между материальной и духовной сторонами бытия» доставляют ей мучения. Она чистый человек и с теплотой относится к людям, невзирая на их сословную принадлежность. Рождение сына придает ей мужества перед лицом жизненных испытаний, и как колыбельную песню она поет ему христианскую молитву «Аве Мария», исполненная горячей веры и чувства освобождения от страха одиночества. Как пишет Ябу Тэйко, «в благочестии Марико прекрасно проявляется сила ее истинной натуры» [2009. С. 231].
Заслуживает внимания прозвучавшая в романе тема искусства, которая связана с театром Но как с национальным достоянием страны и реализована через образы представителя старой родовой аристократии Эдзима Мунэмити и выдающегося актера Умэвака Мандзабуро.
Мунэмити занимает невозмутимую позицию, «считая, что война к нему лично никакого отношения не имеет». Социальный эскапизм становится для него средством сохранения духовной свободы. Независимый человек, он бросает вызов миру своекорыстия и лицемерия. В новых обстоятельствах, движимый любовью к искусству, он резко высказывается о тех, кто привел страну к катастрофе.
Последняя глава романа называется «Человек в ковчеге» («Хакобунэ-но хито»), где высказывается идея вечной ценности искусства, бессмертия художественной культуры. Носителем ее является актер Мандзабуро, которого старый Мунэмити настойчиво отправляет в эвакуацию: в обстановке упадка и разрушения жизнь актера как национального сокровища должна быть сохранена для возрождения традиционного японского театра. Писательница проводит прямую аналогию с библейским текстом – с вселенским потопом и спасением избранных в Ноевом ковчеге. Японию захлестнула волна смерти, и путь к новой жизни автор мыслит с позиций христианского мироощущения.
Ногами Яэко была близка художественная национальная традиция, и, по мнению писательницы Кидзаки Сатоко (род. в 1939 г.), она своеобразно отразилась не только в теме искусства, но и в стилистике романа: «Роман “Лабиринт”, на первый взгляд, реалистическое произведение, но, по сути, разве в нем не нашел практического применения символистский метод театра Но? Искусно вырезанные маски и тщательно подобранные одежды, размеренные неторопливые шаги и фрагменты, исполняемые хором, часто копируются в романе. Персонажи выплывают из темных кулис и оставляют яркое впечатление… Мы родились во времена, близкие событиям “Лабиринта”, и существуем под их непосредственным влиянием, поэтому нельзя не рискнуть рассмотреть это большое произведение со всех сторон, настолько оно интересно» [Киндай нихон бунгаку…, 2004. С. 325].
После публикации романа «Лабиринт» на него обратил внимание Абэ Ёсисигэ (1883-1966), философ, педагог, литературный критик, последователь Нацумэ Сосэки. Он высказал недоумение по поводу того, что это крупное и мощное достижение Ногами Яэко не было представлено для обсуждения в литературных кругах, и его значимость не была оценена. Одну из причин ситуации он видит в том, что Ногами не стремилась к общению с литературным миром [Ногами Яэко, 1976. С. 521]. Писательница обладала независимостью взглядов и убеждений, настаивая на праве человека самому делать выбор судьбы. Она сосредоточена на человеческой личности в контексте истории как приложении смыслов существования, находящих проявление в индивидуальном бытие.
Список литературы Социально-психологический роман Ногами Яэко
- Миямото Юрико. Избранное. М.: Худож. лит., 1984. 504 с.
- Ногами Яэко. Лабиринт: В 2 т. М.: Иностр. лит., 1963.
- Нома Хироси. Зона пустоты. М.: Худож. лит., 1960. 375 с.
- Остин Дж. Гордость и предубеждение. М.: Мартин, 2009. 325 с.
- Fairbanks C. Japanese Women Fictions Writers. Lanham: Scarecrow Press, 2002. 647 p.
- Дзёсэй бунгаку-о манабу хито-но тамэ-ни [女性文学を学ぶ人のために。東京:世界思想 社]. Тем, кто изучает женскую литературу. Токио: Сэкай сисося, Токио, 2000. 270 с.
- Киндай нихон бунгаку-но сусумэ [近代日本文学のすすめ。東京:岩波書店 ]. Знакомство с современной японской литературой. Токио: Иванами сётэн, 2004. 353 с.
- Ногами Яэко. Матико [野上弥生子。真知子。東京:岩波書店 ]. Матико: В 2 т. Токио: Иванами сётэн, 1974.
- Ногами Яэко. Сю [野上弥生子集 // 日本文学全集。東京:筑摩書房 ]. Сочинения // Полное собрание японской литературы. Токио: Тикума сёбо, 1976. Т. 24. 532 с.
- Сакасаи Хисако. Ногами Яэко [逆井尚子。野上弥生子。東京:未来社 ]. Ногами Яэко. Токио: Мирайся, 1992. 630 с.
- Тайсё-но дзёси кёику [大正の女子教育。東京:国土社 ]. Женское образование в эпоху Тайсё. Токио: Кокудося, 1975. 349 с.
- Ябу Тэйко. Ногами Яэко [藪禎子。野上弥生子。東京:新典社 ]. Ногами Яэко. Токио: Синтэнся, 2009. 271 с.