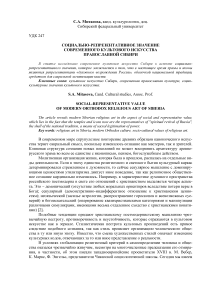Социально-репрезентативное значение современного культового искусства православной Сибири
Автор: Митасова С.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 4 (43), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье исследовано современное культовое искусство Сибири в аспекте социальнорепрезентативного значения, которое заключается в том, что в настоящее время храмы и иконы являются репрезентантами «духовного возрождения России», оболочкой национальной традиции, средством для сакральной легитимации власти.
Культовое искусство сибири, современная православная культура, социокультурные значения культового искусства
Короткий адрес: https://sciup.org/142142708
IDR: 142142708 | УДК: 247
Текст научной статьи Социально-репрезентативное значение современного культового искусства православной Сибири
В современном мире скрупулезное повторение древних образцов канонического искусства теряет сакральный смысл, поскольку изменилось сознание как мастеров, так и зрителей. Клиповая структура сознания новых поколений не может воспринять архитектуру древнерусского храма во всем ее единстве с иконописью, пением, богослужебным действом.
Молитвенная организация жизни, которая была в прошлом, распалась на отдельные виды деятельности. Если в эпоху единства религиозного и светского бытия культурный каркас детерминировался стремлением к духовности, то сейчас секулярное мышление с доминирующими ценностями утилитаризма диктует иное поведение, так как религиозное общественное сознание кардинально изменилось. Например, в характеристике духовного пространства российского постмодерна в свете его отношений с христианством выделяется четыре аспекта. Это - демонический (отсутствие любых моральных ориентиров вследствие потери веры в Бога); секулярный (демонстративно-индифферентное отношение к христианским ценностям); неоязыческий (засилье астрологии, распространение гороскопов и всевозможных суеверий) и богоискательский (оперирование квазихристианскими категориями и манипуляции различными симулякрами, имеющими весьма отдаленное сходство с христианскими понятиями) [2].
Подобные тенденции придают христианскому постмодернистскому мышлению чрезвычайную пестроту, противоречивость и неустойчивость, которые отражаются в культовом искусстве как в зеркале. Стилистическая пестрота культовых произведений есть прямое следствие подобного сознания, так как стиль проявляет организацию человеческого общества в ту или иную эпоху. Известно, что смена художественных стилей означает изменение культурных кодов, отвечающих за то или иное представление о реальности.
В условиях глобализации религиозный критерий в самоопределении человека и общества оказался чрезвычайно живучим, несмотря на многочисленные предсказания его отмирания, в частности, об этом писали западноевропейские просветители XVIII в. М. Вебер, К. Маркс, Ф. Энгельс, представители Чикагской социологической школы. Сегодня мы имеем возможность наблюдать не только в Сибири, но и во всем мире беспрецедентную реанимацию религиозных символов и ценностей, причем в синтетичном, модифицированном виде.
В начале XXI в. «настоящими», или «истинными», православными можно считать тех, кто живет по церковным законам, считает, что знает основы христианского учения, регулярно читает Библию, молится и ходит в церковь, участвует в главных христианских таинствах, соблюдает религиозные посты, традиционно отмечает религиозные праздники. Это всего лишь 5 - 7% всех опрошенных, согласно исследованиям М.А. Жигуновой [3, с. 63]. Автором названы только внешние признаки ортодоксальной религиозности. По понятным причинам здесь необходима некоторая формализация критериев при опросах.
Для большинства воцерковленных вера - понятие не книжное, а ритуальное. Именно поэтому человек, формально исполняющий ритуалы (например, носящий крестик и поедающий кулич на Пасху), уже считается православным, хотя он может и не знать ни «Отче наш», ни где родился Спаситель, ни что надо делать в храме, если он туда случайно попал. Именно такое понимание веры у большей части «православного» населения России и Сибири. И эта ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем , так как духовенство считает, что если большинством населения являются славяне, то образовывать их нет необходимости. Основная миссия по введению человека в Церковь возлагается на храм, и потому основные усилия прикладываются для строительства собора максимально возможного размера и с как можно более блестящими куполами.
Полагаем, что специфической чертой религиозности современных людей можно назвать «веру невоцерковленную», она никуда не ушла, а только из общественного дискурса переместилась в субъективный. Потребность в вере имманентно присуща человеку, поэтому исторически могут меняться формы ее выражения, но не так называемая «истинность».
Современные люди все менее нуждаются в узкоконфессиональном выражении своей веры. Приведем для примера результаты исследования в Восточной Сибири. В частности, в Республике Бурятия исследователи отмечают наличие «инновационной модели поведения» [7, с. 75], то есть сохранения традиции толерантного отношения к иноверцам, ее приспособлении к изменившимся условиям. Толерантность отношений русских и бурят фиксировалась и в 2005, и в 2007, и в 2009 гг., в частности, она выражается в стирании религиозных границ. Инновационной тенденцией в регионе можно назвать одновременное посещение как право -славных храмов, так и дацанов и бурятами, и русскими. Возможно, это показатель отсутствия истинной веры, так как человеку нужна «индульгенция», а от кого - не важно.
С другой стороны, респонденты говорят о том, что «Бог один, искренняя молитва будет услышана все равно, а поскольку мы живем в этом регионе, то должны соблюдать и уважать традиции соседей» [7, с. 77]. В итоге свыше 95% верующих бурят чаще всего посещают дацан, около 80% - соблюдают религиозные праздники и читают молитвы. Русские в основном соблюдают праздники (чаще Рождество и Пасху, реже Троицу, остальные праздники упоминаются еще реже), ходят в храм, как и буряты , но вдвое меньше читают молитв, больше стараются соблюдать заповеди и давать милостыню.
Естественно, что с изменением характера религиозности и отношения к институту церкви трансформировались социокультурные функции культового искусства. В данной статье ставится задача исследовать метаморфозы социально-репрезентативного значения культового искусства (архитектуры и иконописи) для выявления особенностей отношения между Русской православной церковью и государством в современной культуре Сибири .
Взаимодействие государства и Церкви может быть охарактеризовано с разных точек зрения. Высшие церковные иерархи утверждают, что государство совершенно не вмешивается во внутренние дела Церкви. Вопросы, связанные с открытием епархий, назначением священников, темами выступлений в медиапространстве, Церковь решает самостоятельно. Например, председатель Синодального информационного отдела Русской православной церкви В.Р. Легойда считает, что сегодняшний «храм — единственное место, где мирно встречаются представители разных политических взглядов и партийных предпочтений, потому что у Чаши Христовой эти ценности отходят на второй план. <.. .> да, государственные мужи сегодня нередко апеллируют к православным и вообще религиозным ценностям <...> Церковь и государство занимаются взаимовыгодным сотрудничеством» [4].
Сейчас уже ни одно важное государственно-административное мероприятие не обходится без присутствия священника, а чиновники обязательно участвуют в значимых для Церкви событиях. Например, когда патриарх Кирилл нанес визит в г. Красноярск 11 сентября 2012 г., то его встречали официальные лица: губернатор Красноярского края Л.В. Кузнецов, председатель Законодательного собрания Красноярского края А.В. Усс, глава города Э.Ш. Акбулатов.
Местное самоуправление идет навстречу предложениям приходов по возведению храмов, установлению поклонных крестов, организации крестных ходов. В частности, по инициативе Богородице-Казанского прихода было решено оградить весь Селенгинский район Бурятии поклонными крестами. Поддержка была оказана со стороны администрации г. Гу-синоозерска и ряда строительных организаций. 4 августа 2012 г. состоялось торжественное освящение креста в с. Ардасан Селенгинского района, на котором присутствовали все местные жители, а также руководители местного самоуправления [5].
Возродилась традиция крестных ходов в Сибири. Крестный ход - это торжественное шествие священнослужителей и верующих, которые несут запрестольный крест, фонарь, иконы и хоругвии. Обычно крестный ход совершают с особо почитаемой иконой, которую несут впереди, как бы воздавая ей почести. Такая икона есть в каждом городе. В Красноярске это икона «Преображение Господня» (1728), которая ныне хранится в Краеведческом музее и передается в епархию для проведения крестного хода на День города. С 2004 г. каждый год красноярцы вместе с официальными лицами шествуют от часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе до Свято-Покровского кафедрального собора.
В день празднования 400-летия Томска и Томского Богородице-Алексеевского монастыря (3 сентября 2004 г.) после богослужения, которое возглавил архиепископ Томский и Асиновский Ростислав, был совершен крестный ход от Богоявленского собора на Воскресенскую гору - то самое место, где был основан Томск и где находилась первая на томской земле Троицкая церковь. Во главе крестного хода духовенство несло икону Пресвятой Троицы, подобную той, которой Борис Годунов в 1604 г. благословил новопостроенную Томскую крепость. На крестный ход был вынесен из собора и ковчег с частицей Ризы Господней. На мысе Воскресенской горы был совершен молебен, и архиепископ Ростислав освятил восстановленный фрагмент томского острога со Спасской башней. Также со словами приветствия к собравшимся обратились архиепископ Ростислав, губернатор Томской области В.М. Кресс, мэр Томска А.С. Макаров [6].
На наш взгляд, взаимовыгодность отношений Церкви и государства заключается в стом, что государство, как и в древности, нуждается в сакрализации своей власти. Демократизация современных социально-политические систем потребовала выработки иных, нежели советские, механизмов легитимации политической власти. Культовые произведения служат в церковно-властных отношениях объектом для ведения переговоров (в случае имущественных споров), особо ценным подарком (дарение высшими иерархами икон, библий, евангелий и др.), национальным символом возрождения России (строительство и реконструкция храмов). Например, в декабре 2009 г. на заседании Совета по делам казачества при Президенте страны патриарх РПЦ Кирилл заявил, что он берет под личное окормление казачество России, и подарил Сибирскому казачьему войску список иконы Казанской Божией Матери. Атаман алтайских казаков генерал Анатолий Острягин дал команду пронести икону крестным ходом по всем населенным пунктам, где компактно проживают казаки [1].
Для государственных структур участие в восстановлении святынь означает получение необходимой сакрализации. Официальный обряд освящения власти президента сейчас не производят, как это было при посажении на престол князей и царей в Успенском соборе Московского Кремля, и при инаугурации президент не клянется на Библии, как в США. Очевидно, что при иллюзии отсутствия четкой идеологии у власти необходимо обращаться к национальной религиозной традиции. В России и Сибири титульной религией является пра- вославие, хотя в последнее десятилетие заметна тенденция уравнять позиции православия и ислама во избежание религиозно-этнических конфликтов.
Культовое произведение выступает репрезентантом не только религии, но и национальности, объединяя две эти универсальные категории. Власть легитимируется и как «исконно родная, своя», и как «святая, данная Богом». Для Церкви же важно вернуть себе национализированное во время советской власти имущество и земли, передача все еще продолжается, принят закон, упорядочивающий этот процесс.
Восстановление храмов ассоциируется с возрождением России. Как в XIX в. при официально принятой программе «Православие, Самодержавие, Народность» процесс «возрождения» напоминал скорее отчаянную реанимацию после западноевропейских преобразований XVIII в., так и ныне наблюдаются подобные попытки.
Полагаем, что любые лозунги «возродить и воскресить» есть указание на то, что данная культурная форма потеряла свою непосредственную функциональность для общества и эксплуатируется как артефакт, имеющий лишь символическое значение. С подачи массмедиа было введено понятие «возрождение России» (в этом случае Сибирь мыслится как неотъемлемая ее часть), даже существует неканоническая икона под названием «Воскресающая Русь».
Для укрепления политических позиций государственных лидеров необходимо было внедрить в общественное сознание мысль о том, что «все прекрасное было разрушено советской властью, это они виновники современного кризиса». В свою очередь, нынешней власти необходимо было показать, что они «другие», они «лучше». В этом случае необходимо поддержать тех, кто больше всех пострадал от предыдущей власти – это Церковь (в 2000 г. было канонизировано более тысячи новомучеников). Церковь, пострадавшая при ушедшем режиме, старается поддерживать новую власть, чтобы не повторилась кровавая история. Известно, что у крупных политиков и президента есть свои духовники.
Таким образом, особенность бытования современного социально-репрезентативного значения культового искусства состоит в том, что оно используется как репрезентант «духовного возрождения России», как оболочка национальной традиции для сакрализации власти, в отличие от древности, когда не было еще иных форм манифестации единства общества, кроме религиозных. Если в древности храм был единственным местом и поводом для репрезентации общественного единства, то сейчас возведение храмов воспринимается неоднозначно. При распространенности утилитарного магизма и обрядоверия незначительной воцерковленности социума в Сибири показательная религиозность высших чиновников выглядит как попытка возродить и укрепить национальную идеологию и сакрализовать свою власть.