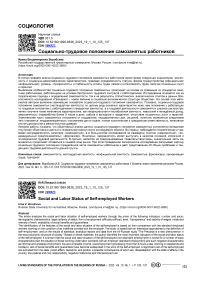Социально-трудовое положение самозанятых работников
Автор: Ирина Владимировна Воробьева
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 1 т.19, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье проведён анализ социально-трудового положения самозанятых работников через призму следующих индикаторов: численность и социально-демографические характеристики, правовая определённость статуса, форма трудоустройства (официальная/ неофициальная), уровень, «прозрачность» и стабильность оплаты труда, режим и интенсивность труда, наличие социальных льгот и гарантий. Выявление особенностей социально-трудового положения самозанятых происходит на основе их сравнения со стандартно занятыми работниками, работающими на условии бессрочного трудового контракта с работодателем. Исследование опирается как на теоретические подходы к определению самозанятости, так и на результаты статистических, аналитических отчётов и данных Все- российского исследования «Прекариат – новое явление в социально-экономической структуре общества». На основе этих материалов автором выявлены важнейшие показатели социально-трудового положения самозанятых. Показано, социально-трудовое положение самозанятых (нестандартная занятость) по целому ряду основных характеристик хуже, чем положение у работающих по трудовым контрактам с работодателем (стандартная занятость), а в трудовой деятельности самозанятых широкое распространение получили такие негативные характеристики, как неофициальная и нестабильная занятость, невысокий и ненадёжный доход, сверхзанятость (переработка более 8 часов в день, работа в выходные и праздники), отсутствие социальных льгот и гарантий. Значительная часть самозанятых отстранена от государства, государственных дел, решений, политики, возможным следствием чего становятся: неудовлетворённость положением дел в стране, низкая политическая и гражданская ответственность, негативное институциональное и межличностное доверие. Автором работы показано, что объективный анализ данных социально-трудового положения самозанятых усложняется вследствие отсутствия объективных данных о генеральной совокупности исследуемого объекта. Во-первых, наблюдается теоретическая и правовая неопределённость категории «самозанятый», а в большинстве исследований не разведены понятия «самозанятый», «индивидуальный предприниматель», «фрилансер». Во-вторых, самозанятость может выступать в качестве основной, вторичной и эпизодической трудовой деятельности. В-третьих, несмотря на предпринимаемые правительством меры, значительная часть самозанятых продолжает оставаться в теневой зоне рынка. При этом проведённое эмпирическое исследование раскрывает картину социально-трудового положения определённой части самозанятых работников и даёт представление об общих проблемах и тенденциях трудовой деятельности данной группы.
Самозанятость, нестандартная занятость, неофициальная занятость, самозанятые, фрилансеры, прекаризация труда, прекариат
Короткий адрес: https://sciup.org/143179693
IDR: 143179693 | УДК: 331.5 | DOI: 10.52180/1999-9836_2023_19_1_10_125_137
Текст научной статьи Социально-трудовое положение самозанятых работников
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия, (,
В последние годы всё большие масштабы приобретают нестандартные формы занятости, среди которых, в частности, выделяется самозанятость, предполагающая самостоятельное ведение трудовой деятельности и получение дохода без отношений найма с работодателем. Несмотря на развитие данной формы трудового устройства и увеличение численности самозанятых, эта часть рабочей силы сохраняет ряд проблем: недостаточная правовая урегулированность деятельности и статуса самозанятых, социально-правовая незащищённость, уход, а иногда и вытеснение значительной части самозанятых в неофициальную нелегальную сферу. Все указанные проблемы определяют актуальность исследования такой формы трудовой деятельности граждан.
Поскольку распространение самозанятости является общемировым трендом, проблемы этой формы трудовой деятельности освещаются в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей. Отмечаются масштабы её распространения [1; 2; 3], соотношение официальной и неофициальной самозанятости [4; 5], дифференциация и неравенство трудовых доходов самозанятых [6], вопросы добровольной и вынужденной самозанятости, условия и мотивация труда самозанятых [7; 8; 9; 10; 11; 12].
В научной литературе самозанятость обычно рассматривают как нестандартную занятость, на основе её противопоставления стандартному оформлению работника у работодателя на условиях трудового контракта [1]. Одной из первых наиболее значимых отечественных публикаций в этом направлении можно считать работу учёных НИУ «Высшая школа экономики» Гимпельсо-на В.Е., Капелюшникова Р.И. и др. [1], в которой, в том числе, были приведены теоретические подходы к самозанятости, данные статистической информации о данной группе и т. д.
Важные теоретические и эмпирические данные относительно самозанятых представлены в работе Голенковой З.Т., Голеусовой Т.И. и Гориной Т.И. [2]. Авторы помимо попытки осмысления базовых характеристик группы, анализируют масштабы распространения данной формы заня- тости, правовое становление этого направления трудовых отношений.
Концептуальная информация в контексте изучаемой проблемы представлена в работе исследователей Черных Е.А. и Люхтиной Н.В. [13]. Авторы проводят анализ структуры самозанятых (по демографическим, отраслевым и иным признакам), соотносят самозанятость с близкими к ней формами: фрилансем, платформенной занятостью и т. п.
В исследованиях Стребкова Д.О., Шевчука А.В., посвящённых анализу трудовой деятельности фрилансеров [14; 15] анализируются преимущества и недостатки свободного графика фрилансеров. Авторами делается вывод, что нестандартный график работы часто ведёт к дисбалансу между отдыхом и работой и смещению этих сфер, в ряде случаев усложняя социально-трудовое положение работника, и даже способствуя его пре-каризации.
В последние годы появляется ряд региональных исследований, посвящённых вопросам развития самозанятости как средства адаптации работников к рынку труда и преодоления риска безработицы в конкретных регионах РФ, анализируется социальное самочувствие самозанятых граждан [16; 17; 18]. При этом в большинстве изученных нами работ фиксируются какие-либо характеристики самозанятых, условия и качество их трудовой деятельности, мотивация к самозанятости и пр. Однако, можно отметить, что недостаточно представлены исследования, позволяющие сравнить условия труда самозанятых и работников других форм трудового устройства. В настоящей работе делается попытка такого анализа.
Объектом исследования являются самозанятые граждане РФ. Предметом – социально-трудовое положение самозанятых работников. Цель исследования – выявить базовые характеристики социально-трудового положения самозанятых и степень прекаризации их трудовой деятельности на основе сравнения с работающими на условии бессрочного трудового контракта с работодателем. Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что самозанятость работника (свобода от работодателя) ведёт к неустойчивости и ухудшению социально-трудового положения, способствует прекаризации его труда в сравнении со стандартно занятыми работниками (работающие по найму с работодателем). Достижение поставленной цели предполагает использование данных Росстата, Федеральной налоговой службы, материалов социологических исследований авторских коллективов.
Теоретические основания определения самозанятости
Понятие самозанятости долгое время оставалось недостаточно определённым как в теоретической интерпретации, так и правовом поле, хотя вопросы конкретизации этого понятия поднимаются довольно давно. Причём такая неопределённость касается как фигуры самого самозанятого (кого и в каких случаях относить к самозанятым), так и сферы деятельности, возможностей, условий труда, налогового обложения и пр. Обратимся к некоторым, наиболее значимым, по нашему мнению, подходам к определению исследуемых понятий «самозанятый» и «самозанятость».
Согласно классификации Международной организации труда (МОТ), разделение рабочих мест возможно по пяти основным категориям (ICSE-93: статус в сфере занятости), которые, в свою очередь, могут быть сгруппированы по двум типам рабочих мест: оплачиваемая работа (наемные работники) и рабочие места для самостоятельной занятости (работодатели, самозанятые работники, семейные работники и члены производственных кооперативов)1. Эта классификация представляет собой прежний статистический стандарт, но она по-прежнему наиболее широко используется национальными статистическими системами при составлении статистики труда. Новая классификация (ICSE-18-A: Статус в сфере занятости в зависимости от типа полномочий) предусматривает разделение на независимых работников (работодатели и независимые работники, не имеющие наемных работников) и зависимых работников (подрядчики, работники, работники, помогающие семье)2. Такая классификация позволяет говорить о самозанятых и индивидуальных предпринимателях без сотрудников как о единой группе.
В работах Голенковой З.Т., Голиусовой Ю.В., Гориной Т.И. самозанятые представлены как физические лица, занятые индивидуальным микро- предпринимательством с помощью собственных средств производства, не состоящие в штате организаций и реализующие на рынке произведённые собственным трудом товары и услуги без участия работодателя [2, с. 822].
Стребков Д.О., Шевчук А.В. [15], Тощенко Ж.Т. [19] относят к самозанятым, в том числе, фрилансеров, поскольку специфика их трудовой деятельности заключается в принципиально важном критерии – они сами определяют формы, способы и методы трудовой деятельности. Особенность самозанятости фрилансеров заключается в том, что это люди, занятые преимущественно интеллектуальным трудом, активно использующие Интернет-коммуникации и IT-технологии, платформенную занятость.
В определении Росстата «самостоятельно занятые» или «трудящиеся на самообеспечении» граждане – «это лица, самостоятельно или с одним, или несколькими деловыми партнёрами, осуществляющие деятельность, приносящую доход, и не нанимающие наёмных работников на постоянной основе. Все деловые партнёры в этом случае являются лицами, самостоятельно занятыми. Партнёры могут быть или не быть членами одной семьи или одного домашнего хозяйства»3.
С одной стороны, объединение в одну группу самозанятых, индивидуальных предпринимателей и фрилансеров обосновано и происходит на основании того, что эти люди работают на себя, сами себе являются работодателем. Эта часть работников сама для себя планирует рабочий график и график отпуска, количество заказов, за которое берутся, даже размер оплаты труда и пр., а для получения прибыли могут (добровольно или вынужденно) работать сверхурочно, уменьшать для себя размер собственных выплат, совмещать обязанности и должности, производить или не производить социальные выплаты и пр. С другой стороны, существуют определённые различия, которые прослеживаются на уровне масштабов и объёмов предприятий, уровня дохода, характера и содержания труда, мотивации к самозанятости, личных особенностей этих трёх категорий.
Разночтение прослеживается и в нормативно-правовых актах РФ. В российском законодательстве до 2018 г. термин «самозанятый» встречался только эпизодически, а в формулировку «самозанятые граждане» вкладывалось разное содержание [10; 11]. Например, в пенсионном законодательстве в качестве самозанятых рассматриваются как индивидуальные предприниматели, занятые в бизнесе, так и занятые частной прак- тикой адвокаты, нотариусы, а также участники крестьянских (фермерских) хозяйств. В Налоговом кодексе РФ понятие «самозанятые граждане» отсутствует, хотя в различных подзаконных актах налоговые органы применяют термин «самозанятость» и дают разъяснения по налоговым вопро-сам4. Введённый в действие в 2018 г. Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» распространяется на «физических лиц», в том числе «индивидуальных предпринимателей».5 При этом понятие «самозанятый работник» в данном ФЗ отсутствует, а единственное указание на тип занятости – занятость «без работодателя».6 Однако, несмотря на фактическое объединение самозанятых и предпринимателей малого бизнеса в одну группу, некоторая разница между ними всё же существует. Например, самозанятые работники в отличие от индивидуальных предпринимателей не регистрируются в Фонде социального страхования, а, значит, могут не платить страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Такая практика позволяет экономить расходы за счёт неуплаты взносов, но при этом ставит самозанятого гражданина в социально уязвимое положение. Если эти страховые случаи наступают, расходы несёт не государство, а сам работник.
Большая часть самозанятых может совмещать этот вид занятости с официальной работой по найму, а то и вовсе не регистрироваться в этом статусе, и вести свою деятельность неофициально, что активно практикуется в современных реалиях. Несмотря на попытки государства путём принятия законов сделать самозанятость официальной, легальной и управляемой, с точки зрения права, до сих пор не произошло закрепление таких важных характеристик, как разъяснение терминов «самозанятый», «индивидуальный предприниматель» и «фрилансер», прозрачность дохода и налогообложения, особенности взаимоотношения с заказчиком, режим и условия тру- да, наличие социальных гарантий работающего гражданина. Во многом именно поэтому значительная часть самозанятых продолжает оставаться в нелегальном секторе экономики.
Самозанятость, которая даёт работнику больше возможности и маневренности, поскольку он сам является для себя работодателем, экспертами продолжает оцениваться как неустойчивая [22, c. 74; 23 c. 527–530], что во многом обусловлено правовой неурегулированностью самого понятия «самозанятость» в российском законодательстве, слабой правовой защищённостью, наличием в большей или меньшей степени неформального компонента.
Несмотря на указанные выше имеющиеся правовые различия между категориями индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в данной работе мы придерживаемся широкого подхода к трактовке самозанятости, рассматривая эти категории как единую группу. Главным основанием становится их независимость от работодателя при формировании условий, графика, режима собственной трудовой деятельности, персональная ответственность за экономические и правовые риски.
Методы и данные
Для получения представлений о численности самозанятых использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ и Федеральной налоговой службы РФ, экспертные данные консалтинговых агентств, опубликованные результаты социологических исследований.
Выявление особенностей социально-трудового положения самозанятых преимущественно основано на данных, полученных автором в качестве члена рабочей группы Всероссийского исследования работающего населения «Прекариат: новое явление в социально-экономической структуре общества» (далее – Прекариат-2018), организованного научным коллективом социологического факультета РГГУ. Исследование проведено в июне 2018 г. (N=1200 занятого населения в возрасте 18 лет и старше) по репрезентативной выборке для РФ и её федеральных округов. Поиск и отбор респондентов занятого населения в возрасте 18 лет и старше в соответствии со статистическими данными Росстата. Опрос проходил в пяти типах поселений: мегаполисы (Москва и Санкт-Петербург), административные центры субъектов РФ, административные центры районов, поселки городского типа, сёла (с соблюдением пропорций). Всего отобрано 106 поселений, в том числе 19 административных центров субъектов РФ, 35 районных центров, 33 села, 17 посёлков городского типа (ПГТ). Расчёт эмпирических параметров квот для поиска и отбора респондентов интервьюерами был осуществлён с учётом доли занятого населения (пропорционально) в возрасте 18 лет и старше: 1) по федеральным округам; 2) по типам 5-ти поселений; 3) по социально-профессиональному составу. Среднестатистическое отклонение по этим трем основным контролируемым признакам не превышает ±3,5 % по каждому показателю.
Форма занятости работника фиксировалась на основе самоидентификации респондента: работа на условиях бессрочного договора (54,7 %), временного договора (28,2 %), без трудового договора (14,5 %), самозанятость (2,6 %).
Проведение полевых исследований было обеспечено Центром социального прогнозирования и маркетинга (руководитель Ф.Э. Шереги). Опрос проводился методом персонального интервью по инструментарию, разработанному участниками проектного коллектива социологического факультета РГГУ.
Исследование было направлено на изучение всех форм занятости и в отношении самозанятых носит пилотный характер, при этом оно позволяет провести сравнительный анализ всех форм трудового устройства. В данной работе анализ социально-трудового положения самозанятых производится на основе их сравнения с работниками других форм занятости, и, в первую очередь, со стандартно занятыми работниками (работа по найму и официальному трудовому контракту) на основе индикаторов [23, с. 82-83], позволяющих измерить степень прекаризации труда работника: правовая определённость статуса, форма трудоустройства (официальная/неофициальная), уровень, «прозрачность» и стабильность оплаты труда, режим и интенсивность труда, наличие социальных льгот и гарантий.
На основе этих материалов автором проводится анализ социально-трудового положения самозанятых работников, включая такие параметры оценки, как социально-демографический состав, условия и характер труда, социальное самочувствие.
Результаты исследования
Численность и социальнодемографический состав самозанятых работников
Анализ как социально-демографического портрета, так и социально-трудового положения самозанятых осложняется тем, что подлинная численность этой группы неизвестна, так как учёту подлежат только официально зарегистрированные в этом статусе, в то время как значительная часть самозанятых вытеснена в неформальный сектор экономики. Кроме того, самозанятость может выступать и в качестве основной работы, и в качестве дополнительной вторичной занятости.
Тем не менее, судить о численности самозанятых можно на основании некоторых источников. В качестве таковых, например, выступают информация Росстата, налоговых органов, независимые экспертные оценки, инициативные исследования научных коллективов и др.
Так, по данным Росстата, в 2021 г. из 71 719 тыс. чел. рабочей силы 4 783 тыс. чел. работали не по найму, 918 тыс. чел. зарегистрированы как работодатели, 3 621 тыс. чел. – как самозанятые, 3 тыс. чел. – как члены производственных кооперативов, 241 тыс. чел. – как помогающие на семейном предприятии (таблица 1).
По данным ФНС РФ, в ноябре 2021 г. количество самозанятых в России достигло 3,5 млн чел., что в два раза больше, чем в начале 2021 г. Тогда налог на профессиональный доход (НПД) применяли около 1,6 млн чел.7 В конце октября 2022 г. численность использующих налог на профессиональный доход достигла 6 045 206 чел., в том числе физические лица – 5 721 502 чел., индивидуальные предприниматели – 323 704 чел. (таблица 2).
При этом, по данным экспертов, численность самозанятых в России к 2018 г. уже колебалась в пределах от 4 до 15 млн чел., а значит, подавляющая численность самозанятых не поддается учёту и контролю и находится в неофициальном секторе экономики. Среди официально зарегистрированных самозанятых женщины составляют 42 %, мужчины – 58 %. Их средний возраст – 35 лет. Сфера деятельности самозанятых концентрировалась в таких сферах, как торговля, ремонт, строительство, услуги по транспортировке и хранению, прочие услуги.8
Кроме того, эксперты обращают внимание на то, что есть сферы, где официальная численность самозанятых невысока, например, сфера образования (репетиторство), однако официальная картина далека от реальной ситуации, поскольку распространение этого вида занятости очень велико. Эта часть рынка образовательных услуг в значительном объёме является теневой, к тому же для основной части граждан услуги репетиторства являются дополнительным видом деятельности по отношению к основной занятости.
Таблица 1
Численность занятых по статусу (тыс. чел.)
Population of Employees by Status (Thousands of People)
Table 1
|
Всего, тыс. чел. |
Форма трудового устройства |
||||||
|
<и Н 2 5 ’5 я св н К \о 2 св с Пн |
<и св 2 Пн к |
Из них |
|||||
|
S <и aS tc О о aS |
О л н л н к |
о Он И <и s о ° о § « и “ |
& к s § S S Soh св д у й -S S 2 Ри о s с К и aS К |
||||
|
Занятые – всего |
|||||||
|
2008 |
71 003 |
65 814 |
5 189 |
1 058 |
3 941 |
101 |
90 |
|
2009 |
69 410 |
64 266 |
5 145 |
929 |
3 890 |
97 |
228 |
|
2010 |
69 934 |
65 158 |
4 776 |
885 |
3 546 |
48 |
297 |
|
2011 |
70 857 |
65 827 |
5 029 |
874 |
3 910 |
41 |
204 |
|
2012 |
71 545 |
66 598 |
4 948 |
836 |
3 796 |
31 |
284 |
|
2013 |
71 391 |
66 197 |
5 195 |
916 |
3 988 |
25 |
265 |
|
2014 |
71 539 |
66 378 |
5 161 |
954 |
3 905 |
24 |
278 |
|
2015 |
72 324 |
67 109 |
5 214 |
931 |
4 012 |
8 |
263 |
|
2016 |
72 393 |
66 968 |
5 424 |
929 |
4 195 |
9 |
291 |
|
2017 |
72 316 |
67 520 |
4 796 |
973 |
3 542 |
13 |
269 |
|
2018 |
72 532 |
67 577 |
4 954 |
1 049 |
3 598 |
8 |
299 |
|
2019 |
71 933 |
67 109 |
4 824 |
1 037 |
3 521 |
9 |
257 |
|
2020 |
70 601 |
65 833 |
4 768 |
951 |
3 544 |
8 |
266 |
|
2021 |
71 719 |
66 936 |
4 783 |
918 |
3 621 |
3 |
241 |
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики.
Таблица 2
Сведения о численности самозанятых работников, применяющих «Налог на профессиональный доход»
Table 2
Information about the Population of Self-employed Workers Applying the “Tax on the Professional Income”
|
Месяц, год |
Страна |
Всего (чел.) |
Из них |
|
|
Физ. лица |
Индивидуальные предприниматели |
|||
|
Октябрь, 2022 |
Российская Федерация |
6 045 206 |
5 721 502 |
323 704 |
|
Октябрь, 2021 |
Российская Федерация |
3 398 382 |
3 188 251 |
210 131 |
|
Октябрь, 2020 |
Российская Федерация |
1 143 009 |
104 7802 |
95 207 |
Источник: составлено автором на основе данных Федеральной налоговой службы.
Статистика для национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» // Федеральная налоговая служба: [сайт]. URL: html (дата обращения: 22.11.2022).
По данным независимых источников, в РФ ожидается рост самозанятости. По мнению экспертов, в 2024 г. в стране такой статус оформят 8,4 млн чел. Прирост ожидается за счёт безработных, которые перестанут искать работу по найму и займутся своим делом, «подпольных предпринимателей», которые будут постепенно «обелять» свою деятельность, а также представителей микробизнеса, которые таким образом оптимизируют налогообложение. В настоящий момент основные направления их деятельности – услуги такси, области маркетинга, ремонта, доставки товаров и аренды квартир. Наиболее высокооплачиваемые профессии относятся к IT-сфере, юриспруденции, консультированию, проектированию и пр.9
В качестве источника информации о численности и социальном портрете самозанятых можно привести и исследовательские данные.
Так, по данным опроса РАНГХиГС, в 2019 г. полностью или частично самозанятыми себя называли около 17 млн чел., что составило примерно 22,4 % от всего работающего населения. Причем самозанятость в качестве основного дохода указали 10 % [13, c. 139; 5, c. 23].
Исследование социально-демографического состава, деятельности и содержательных мотивов самозанятых было реализовано Центром исследования социальной структуры и социального расслоения Института социологии ФНИСЦ РАН (руководитель – З.Т. Голенкова). В фокусе оказалось 190 самозанятых, 17,1 % официально зарегистрированных, 53,7 % неофициально работающих, 5,5 % тех, кто отказался ответить на вопрос об официальности своей деятельности. 60 % респондентов имели высшее образование, треть – среднее профессиональное. 52,6 % участвующих в опросе самозанятых составили женщины, 47,4 % – мужчины [2, с. 828].
Важные данные относительно социально-трудового положения самозанятых граждан были получены в ходе исследования «Прекариат-2018», где в качестве респондентов в выборку вошли, в том числе, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. В фокусе внимания исследователей оказались вопросы распространения самозанятости в мировом масштабе [23], объективные характеристики труда самозанятых, субъективное самочувствие, которое влияет на формирование жизненных планов, картины мира, политические и гражданские установки и пр.[24].
По информации ВЦИОМ, 11 % россиян могут назвать себя фрилансерами или в терминах актуального российского законодательства – самозанятыми. По мнению граждан, фрилансерами могут считаться люди, которые самостоятельно находят себе работу, вольнонаёмные работники (15 %), а также те, кто работает на себя (5 %), и кто работает удалённо (5 %).10
Противоречия между данными официальной статистики, учётных органов, комментариями специалистов и исследованиями учёных лишний раз демонстрируют проблемы данного вида занятости, который сложно поддаётся учёту из-за того, что, во-первых, не до конца произошло уточнение и закрепление таких понятий, как «самозанятый», «индивидуальный предприниматель», «фрилансер», во-вторых, самозанятость может выступать в качестве основной, вторичной и эпизодической трудовой деятельности, в-третьих, несмотря на предпринимаемые правительством меры, значительная часть «работающих на себя» продолжает оставаться в теневой зоне рынка.
Кроме того, самозанятость может выступать как осознанный выбор самого человека, так и как навязанная работодателем форма взаимоот-ношений11.
На сегодняшний день категорию самозанятых в той или иной форме составляют очень разные социальные, возрастные, профессиональные группы, которые, помимо всего этого, имеют и разный официальный статус. Исходя из этих параметров, самоощущение работника, удовлетворённость трудом, оценка многих других параметров жизнедеятельности будут серьёзно отличаться. При анализе социальнотрудового положения самозанятых, опираясь на данные эмпирических исследований, мы вынуждены делать пояснение, что наши данные свидетельствуют о положении граждан, попавших в исследование, но при этом говорить об их распространении на всю генеральную совокупность затруднительно. Однако, такого рода исследования всё равно необходимы, поскольку раскрывают картину определённой части самозанятых и дают представления об общих проблемах и тенденциях трудовой деятельности данной группы работников.
Характеристики трудовой занятости самозанятых работников
Анализ данных исследования «Прекари-ат-2018» показал, что самозанятые работники имеют ярко выраженные признаки прекаризации трудовой деятельности, которые мы выделяем на основе семи индикаторов [23, с. 82-83]. Относя са- мозанятых к прекариату, мы исходим из того, что их трудовой деятельности присущи такие характеристики, как неофициальная и нестабильная занятость, ненадёжный доход, сверхзанятость (переработка более 8 часов в день, работа в выходные и праздники), отсутствие социальных льгот и гарантий.
Для самозанятых работников характерен (в большей степени в сравнении со стандартно занятыми работниками, имеющими работодателя) интенсивный режим работы, предполагающий регулярные переработки и наличие вторичной занятости. О регулярных переработках и ненормированном рабочем дне говорят 44,8 % самозанятых (таблица 3), о наличии подработки и вторичной занятости – более 50 %.
Данные «Прекариат-2018» коррелируют с результатами исследования, полученными учёными Высшей школы экономики при обследовании фрилансеров «Перепись фрилансеров» (2019) и RLMS-HSE (2017) [14]. Исследователи делают вывод о том, что кажущаяся свобода и автономия в распоряжении рабочим временем оборачивается «самоэксплуатацией, а не свободой». При сравнении со стандартно занятыми (стандартная трудовая рабочая неделя составляет 40 часов) фрилансеры работают больше. Половина из них работает более 40 часов в неделю, почти треть – более 60 часов в неделю. Режим работы самозанятых фрилансеров тоже отличается от стандартной занятости. Две трети обычных работников никогда не работают ночью (с 21:00 до 6:00), среди фрилансеров таких лишь 10 %, причём каждый шестой работает по ночам ежедневно. Практически все выходные и праздники отдают работе треть фрилансеров и только 7 % обычных работников. Совмещают оба варианта нестандартного графика, работая и днём, и в нерабочие дни, почти две трети фрилансеров [14].
Оплата труда не компенсирует такую интенсивную занятость, зарплата самозанятых (по результатам опроса «Прекариат-2018») в 2018 г. составляла 27 444,4 руб. (таблица 4). Это несколько больше, чем у работающих без трудового контракта, но уступает стандартно работающим по бессрочным контрактам.
При этом вопрос справедливости оплаты труда в группе самозанятых стоит также остро, как и для наёмных работников: каждый четвёртый говорит о несправедливости оплаты своего труда, 40 % – об относительной несправедливости. Казалось бы, самозанятые вправе сами выставлять «планку» оплаты своего труда и назначать себе денежные выплаты. Однако, среднюю стоимость услуг на того или иного специалиста диктует сам рынок, и высокая конкуренция в некоторых сферах заставляет самозанятых снижать уровень оплаты своих услуг.
В группе самозанятых распространена неофициальная и непрозрачная система оплаты труда – получение оплаты труда «в конверте», которая присуща 43,2 % самозанятых граждан (таблица 5). Кроме того, в этой группе широко распространена неофициальная занятость без официального фиксирования статуса самозанятого. Эти данные созвучны с результатами исследования, проведённого в Башкортостане. Учёными было выявлено, что доля самозанятых, работающих без регистрации, составила примерно 60 %, около 2/3 из которых не планировали регистрироваться и в дальнейшем. Зарегистрированы в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя только 40 % респондентов [18].
С одной стороны, неофициальная и неформальная оплата труда является частью ухода от налоговых вычетов и может рассматриваться как инициатива самих самозанятых, с другой – вытеснение части дохода в теневую сферу, не только лишает налогов государство, но и вредит в долгосрочной перспективе самому работнику, лишая его финансовых, правовых и социальных государственных гарантий.
Группа работающих «на себя» в сравнении со стандартно занятыми менее защищена в социально-правовом плане. Только 18,6 % самозанятых могут претендовать на оплату больничных и пособие во время ухода за ребёнком, 21,2 % гарантирован оплачиваемый отпуск (таблица 6). Эти показатели существенно ниже, чем в группах наёмных работников. Прекаризацию труда работника часто связывают с условиями и обстоятельствами, в которые он попадает по вине работодателя (эксплуататора) и жёстких реалий рыночной экономики. Возникает вопрос, почему при отсутствии работодателя человек, работающий на себя, оказывается в ещё более сложных трудовых обстоятельствах?
Каждый второй россиянин (51 %) считает, что самозанятые сами должны определять право и возможность уплаты страховых взносов в государственные фонды, 22 % предлагают сделать это обязательным условием, 18 % граждан полагают, что существующая ситуация на добровольное присоединение к системе государственного социального страхования должен продолжить действовать.12 Сиюминутная тактика возможной экономии путём неуплаты страховых взносов лишает самозанятых в будущем возможности на социальные гарантии и социальное обеспечение (оплата больни чного, декретные выплаты, пенси-
Таблица 3
Продолжительность рабочего дня ( % от числа участников опроса)
Working Day Duration
( % of the Number of Survey Participants)
Table 3
|
Варианты ответов |
Форма трудовых отношений |
||||
|
=s Д А о У И Н 5 2 л У ° |
2 о § % 9 45 m « |
F | 5 S § <и * „ <и § О <и <и й s |
о н о 3 « уз |
н о к aS со aS и |
|
|
Работаю более 8 часов постоянно |
24,8 |
25,0 |
23,7 |
29,3 |
44,8 |
|
Работаю более 8 часов иногда |
40,2 |
42,9 |
45,8 |
32,2 |
38,2 |
|
Не работаю более 8 часов в день |
34,9 |
32,1 |
30,5 |
38,5 |
17,0 |
Источник: составлено автором на основе данных Всероссийского исследования «Прекариат-2018»
Исследование проведено в июне 2018 г. (N=1200 занятого населения в возрасте 18 лет и старше) по репрезентативной выборке для РФ и её федеральных округов. Поиск и отбор респондентов занятого населения в возрасте 18 лет и старше в соответствии со статистическими данными Росстата. Опрос проходил в пяти типах поселений: мегаполисы (Москва и Санкт-Петербург), административные центры субъектов РФ, административные центры районов, посёлки городского типа, сёла (с соблюдением пропорций). Всего отобрано 106 поселений, в том числе 19 административных центров субъектов РФ, 35 районных центров, 33 села, 17 посёлков городского типа (ПГТ). Расчёт эмпирических параметров квот для поиска и отбора респондентов интервьюерами был осуществлён с учётом доли занятого населения (пропорционально) в возрасте 18 лет и старше: 1) по федеральным округам; 2) по типам 5-ти поселений; 3) по социально-профессиональному составу. Среднестатистическое отклонение по этим трём основным контролируемым признакам не превышает ±3,5 % по каждому показателю.
Таблица 4
Среднемесячный заработок в 2018 г. ( % от числа участников опроса)
Average Monthly Earnings in 2018
( % of the Number of Survey Participants)
Table 4
|
Форма трудовых отношений |
Размер среднемесячного заработка в 2018 году? (руб.) |
|
Бессрочный трудовой контракт |
30 236,6 |
|
Временный трудовой контракт (более 1 года) |
29 901,0 |
|
Временный трудовой контракт (менее 1 года) |
24 066,1 |
|
Без трудового контракта |
23 428,0 |
|
Самозанятость |
27 444,4 |
Источник: составлено автором на основе данных Всероссийского исследования «Прекариат-2018»
Исследование проведено в июне 2018 г. (N=1200 занятого населения в возрасте 18 лет и старше) по репрезентативной выборке для РФ и её федеральных округов. Поиск и отбор респондентов занятого населения в возрасте 18 лет и старше в соответствии со статистическими данными Росстата. Опрос проходил в пяти типах поселений: мегаполисы (Москва и Санкт-Петербург), административные центры субъектов РФ, административные центры районов, посёлки городского типа, сёла (с соблюдением пропорций). Всего отобрано 106 поселений, в том числе 19 административных центров субъектов РФ, 35 районных центров, 33 села, 17 посёлков городского типа (ПГТ). Расчёт эмпирических параметров квот для поиска и отбора респондентов интервьюерами был осуществлён с учётом доли занятого населения (пропорционально) в возрасте 18 лет и старше: 1) по федеральным округам; 2) по типам 5-ти поселений; 3) по социально-профессиональному составу. Среднестатистическое отклонение по этим трём основным контролируемым признакам не превышает ±3,5 % по каждому показателю.
Таблица 5
Неофициальная оплата труда ( % от числа участников опроса)
Informal Payment of Labor ( % of the Number of Survey Participants)
Table 5
|
Варианты ответов |
Форма трудовых отношений |
||||
|
>s В >s н у и 5 О 3 to г, ^ Н У су о to |
§ о 5 о 2 >s К си <и Сь О к |
>8 « ° s н у 6 |
о су Й н о 3 « уз |
н о К aS со и |
|
|
Такое бывает регулярно |
4,6 |
6,1 |
10,2 |
41,4 |
19,1 |
|
Иногда |
16,6 |
26,4 |
39,0 |
19,5 |
24,1 |
|
Такого не было |
78,8 |
67,5 |
50,8 |
39,1 |
56,8 |
Источник: составлено автором на основе данных Всероссийского исследования «Прекариат-2018»
Исследование проведено в июне 2018 г. (N=1200 занятого населения в возрасте 18 лет и старше) по репрезентативной выборке для РФ и её федеральных округов. Поиск и отбор респондентов занятого населения в возрасте 18 лет и старше в соответствии со статистическими данными Росстата. Опрос проходил в пяти типах поселений: мегаполисы (Москва и Санкт-Петербург), административные центры субъектов РФ, административные центры районов, посёлки городского типа, сёла (с соблюдением пропорций). Всего отобрано 106 поселений, в том числе 19 административных центров субъектов РФ, 35 районных центров, 33 села, 17 посёлков городского типа (ПГТ). Расчёт эмпирических параметров квот для поиска и отбора респондентов интервьюерами был осуществлён с учётом доли занятого населения (пропорционально) в возрасте 18 лет и старше: 1) по федеральным округам; 2) по типам 5-ти поселений; 3) по социально-профессиональному составу. Среднестатистическое отклонение по этим трём основным контролируемым признакам не превышает ±3,5 % по каждому показателю.
Таблица 6
Наличие социальных гарантий работника ( % от числа участников опроса)
Availability of Social Guarantees of the Employee ( % of the Number of Survey Participants)
Table 6
|
Варианты ответов |
Форма трудовых отношений |
||||
|
2 о сз Су и су У ° to |
СУ й н СУ S ’2 й 2 5 2 о § су о 33 « |
СУ й =s й ° S « <и S О <и pq « |
о to to Й н О 3 « to |
н о К aS со aS и |
|
|
Оплата больничного |
92,4 |
81,8 |
52,5 |
26,4 |
18,6 |
|
Оплата отпуска |
92,7 |
79,6 |
45,8 |
28,2 |
21,2 |
|
Оплата отпуска по уходу за ребёнком |
80,5 |
57,1 |
33,9 |
19,5 |
18,6 |
|
Возможность взять отгул |
85,7 |
69,6 |
69,5 |
57,5 |
26,4 |
Источник: составлено автором на основе данных Всероссийского исследования «Прекариат-2018»
Исследование проведено в июне 2018 г. (N=1200 занятого населения в возрасте 18 лет и старше) по репрезентативной выборке для РФ и её федеральных округов. Поиск и отбор респондентов занятого населения в возрасте 18 лет и старше в соответствии со статистическими данными Росстата. Опрос проходил в пяти типах поселений: мегаполисы (Москва и Санкт-Петербург), административные центры субъектов РФ, административные центры районов, посёлки городского типа, сёла (с соблюдением пропорций). Всего отобрано 106 поселений, в том числе 19 административных центров субъектов РФ, 35 районных центров, 33 села, 17 посёлков городского типа (ПГТ). Расчёт эмпирических параметров квот для поиска и отбора респондентов интервьюерами был осуществлён с учётом доли занятого населения (пропорционально) в возрасте 18 лет и старше: 1) по федеральным округам; 2) по типам 5-ти поселений; 3) по социально-профессиональному составу. Среднестатистическое отклонение по этим трём основным контролируемым признакам не превышает ±3,5 % по каждому показателю.
онный стаж и др.). Кроме того, именно эта часть граждан зачастую работает без официального оформления, а, значит, вообще не попадает под действие трудового права.
Базовую ценность « работа » по критерию « очень важно » выделили 67 % самозанятых, и 86 % работающих на условиях стандартной занятости. Основная часть самозанятых оценивает свои условия труда, как «нормальные» (40 %) и «частично нормальные» (40 %). В качестве преимуществ самозанятости в сравнении с традиционной, стандартной занятостью, выделяют гибкий график, возможность самостоятельно планировать рабочие цели.
При этом косвенным свидетельством определённой неудовлетворённости самозанятых трудовым положением может стать тот факт, что каждый пятый из них хотел бы сменить работу. Для сравнения, среди стандартно занятых этот показатель не превышает 10 %. Среди показателей неудовлетворённости работой 25 % самозанятых выделяют «отсутствие социальных льгот и гарантий труда, медицинского обслуживания», 16,7 % отмечают плохие условия своего труда, 20 % – то, что работа далеко от дома. 25 % самозанятых высказывают опасение потерять работу. Треть опрошенных говорит о низкой оплате своего труда. Каждый третий самозанятый фиксирует ухудшение своего материального положения.13
Особенности трудового положения (например, стабильность трудового статуса, наличие социальных льгот и гарантий и пр.) могут влиять на самоощущение человека, ценностные ориентации, его позицию в отношении мироустройства, общества в целом, отношение к отдельным социальным институтам .
Среди обследуемой нами части самозанятых относительно низкий показатель «абсолютной» удовлетворённости жизнью – 17 %. Тогда, как в группе стандартно-занятых, таких почти 42 %. При общей нейтральной оценке положения дел в стране среди самозанятых самый большой показатель тех, кто не смог дать оценку тому, в правильном ли направлении развивается страна – 56 %, среди стандартно занятых таких всего четверть. Надо отметить, что для этой группы, в принципе, характерен низкий интерес к общественным, политическим, гражданским событиям и действиям, а базовые интересы концентрируются вокруг материальных ценностей и повседневных дел [24]. Кроме того, можно предположить, что гражданин, работающий в государственном секторе экономики, ощущающий в трудовой сфере помощь и защиту государства, в большей степени чувствует свою гражданскую принадлежность и долг, стремится принимать участие в жизни го- сударства. При этом работа «на себя», отсутствие государственной поддержки ведут к сокращению, а то и вовсе необязательности ответственности и гражданского долга перед государством.
Выводы
Работа «на себя», а не на работодателя не исключает, а временами даже усиливает прека-ризацию труда, включая такие характеристики трудовой деятельности, как сверхзанятость и переработка, неофициальная занятость и оплата труда, отсутствие социальных гарантий и пр. Независимость от работодателя имеет обратную сторону – экономические и правовые риски и ответственность, которая ложится на самог о самозанятого работника. Отсутствие необходимости платежей в Фонд социального страхования приводит к невозможности получения больничного, оплачиваемого отпуска, пособия по беременности и родам, пенсионного обеспечения. В отношении самозанятых не действуют механизмы защиты от безработицы, которые применяются в отношении стандартно занятых наёмных работников. У самозанятых отсутствует государственный контроль за режимом и интенсивностью труда, что часто ведёт к вынужденной самоэксплуатации.
Экспертами высказывается мнение, что будет возникать больше случаев «насильственной самозанятости», поскольку работодатели в целях уменьшения расходов и экономии на выплате страховых взносов будут привлекать самозанятых в качестве наёмного персонала [25, c. 767]. Эта же оптимизация способствует переходу части индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых.
Для самозанятых граждан необходимость сиюминутной экономии и желание получить прибыль в значительной части случаев приводит к сокрытию доходов, нелегальной трудовой деятельности и игнорированию возможных штрафных санкций со стороны налоговых органов. Уход в нелегальный сектор экономики значительной части самозанятых граждан ведёт как к недополучению налогов со стороны государства, так и ухудшению социально-трудового положения самих самозанятых. В свою очередь, статус самозанятого, то есть человека, работающего на себя, независящего от государства, в значительной части не производящего налоговых отчислений, самостоятельно решающего экономические проблемы и принимающего риски рыночной экономики, социального обеспечения без государственной поддержки приводит к определённому отмежеванию данного вида работников от государственной власти, государственных действий, решений, проводимой политики.
Список литературы Социально-трудовое положение самозанятых работников
- В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда: Монография / Под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 535 с. ISBN 978-5-7598-1090-2
- Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В., Горина Т.И. Социологический портрет самозанятых в современной России // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2020. Т. 20. № 4. С. 821–836. DOI 10.22363/2313-2272-2020-20-4-821-836
- Astebro T., Chen J., Thompson P. Stars and Misfits: Self-Employment and Labor Market Frictions // Management Science. 2011. Vol. 57. No. 11. P. 1999-2017.
- Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор сокращения: научная монография / В.Н. Бобков, В.Г. Квачев, И.Б. Колмаков [и др.]. М.: КНОРУС. 2018. 342 с. ISBN 978-5-406-06941-7
- Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Самозанятость на современном рынке труда // Социально-трудовые исследования. 2019. № 3(36). С. 18–29. DOI 10.34022/2658-3712-2019-36-3-18-29
- Schneck S. Self‑Employment as a Source of Income Inequality // Eurasian Business Review. 2020. Vol. 10. No. 1. P. 45-64.
- Earle J. S., Sakova Z. Business Start-Ups or Disguised Unemployment? Evidence on the Character of Self-Employment from Transition Economics // Labor Economics. 2000. Vol. 7. No. 5. P. 575–601.
- Bögenhold D., Klinglmair A. Independent work, modern organizations, and entrepreneurial Labour: Diversity and hybridity of freelancers and self-employment // Journal of Management & Organization. 2016. Vol. 22. No. 6. P. 843-858.
- Bögenhold D., Klinglmair R., Kandutsch F. Solo Self-Employment, Human Capital and Hybrid Labour in the Gig Economy // Foresight and STI Governance. 2017. Vol. 11. No. 4. P. 23–32. DOI 10.17323/2500-2597.2017.4.23.32
- Burke A., Fitzroy F., Nolan M. What Makes a Die-Hard Entrepreneur? Trying or Persisting in Self-employment // Small Business Economics. 2008. Vol. 31. P. 93-115. DOI 10.1007/s11187-007-9086-6.
- Involuntary self-employment as a public policy issue: A cross-country European view / T. Kautonen, S. Down, F. Welter, P. Vainio, J. Palmroos // International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research. 2010. Vol. 16. No. 1-2. P. 112-129.
- Meager N. Job quality and self-employment: Is it (still) better to work for yourself? // The Handbook of Research on Freelancing and Self-Employment / Ed. A. Burke. Dublin: Senate Hall Publishing. 2015. P. 35-46.
- Черных Е.А., Локтюхина Н.В. Актуальные социально-трудовые аспекты самозанятости в современной России // Экономическое возрождение России. 2021. № 1(67). С. 136–151. DOI 10.37930/1990-9780-2021-1-67-136-151
- Стребков Д.О., Шевчук А.В. Ловушка гибкой занятости: как нестандартный график работы влияет на баланс между работой и жизнью фрилансеров // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 3. С. 86–102. DOI 10.14515/monitoring.2019.3.06
- Стребков Д.О., Шевчук А.В. Что мы знаем о фрилансерах? Социология свободной занятости. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. 527 с. ISBN 978-5-7598-2722-1 (в пер.), ISBN 978-5-7598-2804-4 (e-book), DOI 10.17323/978-5-7598-2722-1
- Секлецова О.В. Самозанятость населения в российской экономике и в Кемеровской области-Кузбассе: тенденции и перспективы // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 6–2. С. 320–324. DOI 10.17513/vaael.2284
- Попов А.В., Баймурзина Г.Р. Самозанятое население России в период пандемии коронавируса Covid-19: опыт Вологодской области // Экономика труда. 2021. Т. 8. № 10. С. 1237–1256. DOI 10.18334/et.8.10.113579
- Баймурзина Г.Р., Туракаев М.С. Социально-экономическое положение и самочувствие самозанятых в России (на примере Республики Башкортостан) // Россия реформирующаяся: ежегодник: вып. 19 / Отв. ред. М. К. Горшков; ФНИСЦ РАН. М.: Новый Хронограф, 2021. С. 34–64. DOI 10.19181/ezheg.2021.2
- Тощенко Ж.Т. Прекариат: От протокласса к новому классу. М. : ФГУП «Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр «Наука», 2018. 350 с. ISBN 978-5-02-040118-1.
- Нестеренко Ю.Н., Протасова Е.А. Самозанятость в России: состояние и потенциал развития // Народонаселение. 2019. Том 22. № 4. С. 78–89. DOI 10.24411/1561-7785-2019-00040
- Землянухина С.Г., Землянухина Н.С. Система экономических отношений в сфере самозанятости населения России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2018. Том 18. № 2. С. 126–133. DOI 10.18500/1994-2540-2018-18-2-126-133
- Кубишин Е.С. Неформальная занятость в современной России: прежние проблемы и новые реалии // Уровень жизни населения регионов России. 2022. Том 18. № 4. С. 521–534. DOI 10.19181/lsprr.2022.18.4.8
- Прекариат: становление нового класса (опыт социологического анализа): коллективная монография / Ж.Т. Тощенко, Р.И. Анисимов, А.В. Кученкова [и др.]; Под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2020. 400 с. ISBN 978-5-906001-76-4
- От прекарной занятости к прекаризации жизни / Под ред. Ж.Т. Тощенко. М: Издательство «Весь мир», 2022. 364 с. ISBN 978-5-7777-0886-1
- Будущее социологического знания и вызовы социальных трансформаций (к 90-летию со дня рождения В.А. Ядова) // Сборник материалов Международной научной конференции. (Москва, 28-30 ноября 2019 г.); Отв. ред. М.К. Горшков. М.: ФНИСЦ РАН, 2019. 903 с. DOI 10.19181/yadov_conf.2019, ISBN 978-5-89697-316-4