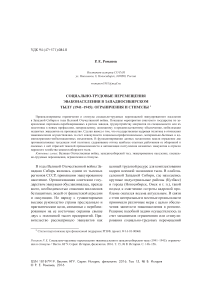Социально-трудовые перемещения эваконаселения в западносибирском тылу (1941-1945): ограничения и стимулы
Автор: Романов Роман Евгеньевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Проанализированы ограничения и стимулы социально-трудовых перемещений эвакуированного населения в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны. Показаны мероприятия советского государства по закреплению персонала перебазированных в регион заводов, трудоустройству мигрантов по специальности или их подготовке к новым профессиям, материальному, жилищному и продовольственному обеспечению, мобилизации незанятых эвакуантов на производство. Сделан вывод о том, что государственная кадровая политика в отношении эваконаселения осуществлялась за счет совокупности социально-профессиональных, материально-бытовых и административно-мобилизационных механизмов. В функционировании данных механизмов нашли отражение две противоположные тенденции этой политики: сдерживание оттока наиболее опытных работников из оборонной и смежных с ней отраслей тяжелой промышленности и активизация поступления незанятых эвакуантов в отрасли народного хозяйства западносибирского тыла.
Великая отечественная война, эвакуированное население, западносибирский тыл, социально-трудовые перемещения, ограничения и стимулы
Короткий адрес: https://sciup.org/147219646
IDR: 147219646 | УДК: 94
Текст научной статьи Социально-трудовые перемещения эваконаселения в западносибирском тылу (1941-1945): ограничения и стимулы
В годы Великой Отечественной войны Западная Сибирь являлась одним из тыловых регионов СССР, принявшим эвакуированное население. Организованная советским государством эвакуация обуславливалась, прежде всего, необходимостью спасения миллионов беззащитных людей от фашистской агрессии и оккупации. Но наряду с гуманитарными высшее руководство страны преследовало и прагматические цели, связанные с перебазированием на ее восточные окраины свыше двух с половиной тысяч предприятий. Правительство рассматривало эвакуантов как ценный трудовой ресурс для комплектования кадров военной экономики тыла. В слабозаселенной Западной Сибири, где находились крупные индустриальные районы (Кузбасс) и города (Новосибирск, Омск и т. п.), такой подход к смягчению остроты кадровой проблемы оказался весьма актуальным. В связи с этим центральные и местные органы власти принимали различные меры с целью обеспечения занятости эваконаселения в регионе. Решение подобной задачи осуществлялось за счет механизмов ограничения или стимулирования социально-трудовых перемещений мигрантов, прибывших из прифронтовой полосы.
Тема трудоустройства населения, эвакуированного в западносибирский тыл, получила широкое освещение в отечественной историографии. В советской научно-исторической литературе [Акулов, 1967; Докучаев, 1968; 1973; Рабочий класс Сибири…, 1984] осуществлялось комплексное изучение государственной политики по формированию кадров военной экономики региона за счет разнообразных социальных источников. В качестве одного из таких источников рассматривалось эваконаселение и его отдельные категории. В частности, была охарактеризована роль эвакуированных рабочих и специалистов [Докучаев, 1971], вузовской интеллигенции и студентов [Петрова, 1968] в формировании индустриальных кадров, участие эвакуантов в колхозно-совхозном производстве [Щеголев, 1959].
В современных исследованиях эвакуированное население изучалось комплексно как сложный социальный феномен военного времени, в том числе как трудовой потенциал тыловых районов СССР. Данный подход был реализован в монографических работах поволжских [Федотов, 2009], уральских [Потемкина, 2002; 2006] и документальных публикациях западносибирских [Во имя Победы…, 2005] историков. В контексте многогранного процесса адаптации эвакуантов к новой и суровой социальной среде были проанализированы аспекты экономического использования людских ресурсов, перемещенных в восточные районы страны. Внимание уделялось также анализу форм трудоустройства мигрантов из европейской части СССР в отраслях народного хозяйства Западной Сибири [Снегирева, 2010]. Однако вопрос о механизмах регулирования советским государством социально-трудовых перемещений эваконаселения и их влияния на способы решения кадровой проблемы остается одной из лакун в реконструкции социально-экономической истории региона периода Великой Отечественной войны. Ее заполнению и посвящена данная статья.
Методологической базой исследования является теория социальной мобильности, согласно которой индивиды переходят с одной социальной позиции на другую, равно- значную или неравнозначную предыдущей. В годы войны такие перемещения гражданского населения в СССР обуславливались преимущественно мероприятиями советского государства в области социально-трудовых отношений. В одних случаях власть стремилась воспрепятствовать мобильности, в других – пыталась ее развивать. Специфика смешанного состава эвакуантов (кадровые работники и иждивенцы без профессии) позволяла успешно реализовать этот двойственный подход к рассматриваемой категории людских ресурсов. В связи с этим цель исследования – выявление в процессе функционирования механизмов ограничения и стимулирования трудовых перемещений эваконаселения западносибирского тыла основных тенденций государственной кадровой политики в регионе в первой половине 1940-х гг.
В начальный период Великой Отечественной войны в СССР развернулась беспрецедентная по масштабам эвакуация населения. Во втором полугодии 1941 – 1942 г. в восточные районы страны было вывезено от 12 до 17 млн чел. [Потемкина, 2006. С. 24]. В это время Западная Сибирь приняла более 1 млн чел. [Савицкий, Романов, 2014. С. 110]. На 1 января 1943 г. в регионе находилось 925 тыс. эвакуантов, включая 513 тыс. трудоспособных, на 1 января 1944 г. – 507,4 и 282,2 тыс., на 1 апреля 1945 г. – 201,5 и 96,2 тыс. чел. [Во имя Победы…, 2005. С. 138]. Их учетом и трудоустройством до февраля 1942 г. занимались отделы край- и облисполкомов, курировавшиеся уполномоченными Совета по эвакуации при Совнаркоме СССР, с февраля 1942 г. – отделы хозяйственного устройства эвакуированного населения. На начало 1943 г. в отраслях экономики западносибирского тыла было занято 346,5 тыс. чел., или 67,5 % трудоспособных эвакуантов, на 1 апреля 1943 г. – 411,1 тыс., или 80,9 %, на 1 января 1944 г. – 200,7 тыс. чел., или 71,1 % [Там же]. Следовательно, основная масса эваконаселения рабочего возраста заняла значительную часть трудовых вакансий в регионе.
Источники позволяют выделить в составе мигрантов, прибывших в Западную Сибирь в 1941–1942 гг., четыре социальных потока. На 1 января 1943 г. в Новосибирской области насчитывалось 504,3 тыс. эвакуан-тов, в том числе прибывших вместе с промышленными предприятиями – 109,6 тыс. (21,7 %), учреждениями и организациями – 189,1 тыс. (37,5 %), с детскими учреждениями – 13,8 тыс. (2,4 %), в индивидуальном порядке – 187,8 тыс. чел. (37,2 %) [Во имя Победы…, 2005. С. 261]. В первом потоке находились фабрично-заводские рабочие, инженерно-технические работники, служащие и члены их семей. Второй был представлен конторскими специалистами и служащими, интеллигенцией, работниками строительства, транспорта и членами их семей, учащимися государственных трудовых резервов, студентами техникумов и вузов. В третий включались работники, члены их семей, воспитанники детских домов и интернатов. Четвертый состоял из населения, эвакуировавшегося в индивидуальном порядке (незанятые рабочие и специалисты, учащиеся, домохозяйки, пенсионеры и т. д.). Первые три потока распределялись региональными и местными органами власти Западной Сибири преимущественно между крупными городами, последний – сельскими районами. В зависимости от размещения трудоспособные эвакуанты направлялись в основном в индустриальный или аграрный сектор общественного производства.
Структура занятости эваконаселения в Западно-Сибирском регионе в годы войны позволяет выявить основные направления их социально-трудовых перемещений. В начале 1943 г. в Новосибирской области было учтено 281,3 тыс. трудоспособных эвакуантов. Из числа данного контингента в промышленности работали 128,1 тыс. чел. (45,8 %), в сельском хозяйстве – 50,0 тыс. (17,8 %), в промысловых артелях – 16,3 тыс. (5,8 %), на железнодорожном транспорте – 8,0 тыс. (2,8 %), в учреждениях и организациях – 5,2 тыс. чел. (1,8 %) [Там же. С. 203]. Сопоставление этих данных со сведениями о социальных эвакопотоках свидетельствует о том, что наиболее «инертной» людской массой являлся производственный персонал перебазированных в регион заводов и члены его семей, наиболее динамичной – эвако-граждане, прибывшие с учреждениями и организациями или индивидуально. В результате трудоустройства люди перемещались из среды конторских специалистов и служащих, интеллигенции, учащихся, студентов, домохозяек, пенсионеров в ряды рабочих и служащих предприятий и совхозов, колхозных работников, в том числе со вступлением в члены колхоза.
Неравномерная социальная динамика трудовой мобильности тех или иных категорий эвакуантов была связана с действием социально-профессиональных, материально-бытовых и мобилизационных механизмов ее ограничения и стимулирования.
Набор социально-профессиональных «инструментов» сдерживания текучести опытных кадров в условиях эвакуации включал обеспечение им соответствующих рабочих мест и сохранение производственного стажа на предприятиях, трудоустройство специалистов, самостоятельно приехавших в Западную Сибирь. Данные механизмы, прежде всего, были ориентированы на промышленный персонал. На 1 ноября 1941 г. только с 15 эвакуированными заводами, одним НИИ и тремя строительными трестами оборонной промышленности в Новосибирск прибыло 25,8 тыс. рабочих, служащих и членов их семей [Савицкий, Романов, 2014. С. 112]. Поступавшая рабочая сила использовалась в тех же отраслях и по аналогичным специальностям, что и до эвакуации. Согласно приказу по комбинату «Кузбассуголь» от 25 ноября 1941 г. эвакуированные рабочие и ИТР треста «Орджоникидзеуголь» комбината «Донецку-голь» направлялись в трест «Прокопьевску-голь». С 25 ноября 1941 по 12 января 1942 г. из Донбасса в г. Прокопьевск Новосибирской области (в границах на 1 января 1941 г.) прибыли 964 шахтера, в том числе имевших подземные специальности – 682 [Во имя Победы…, 2005. С. 141]. Данный контингент тружеников, за исключением десяти горняков, был использован по профессиям в угольной промышленности Кузбасса.
Типичная ситуация складывалась при эвакуации учебных заведений гострудрезервов. В первые месяцы войны в Западную Сибирь прибыли десятки ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения (ФЗО). Численность учащихся учреждений начального профессионально-технического образования региона выросла с 13,7 тыс. чел. в начале 1941 г. до 55,8 тыс.
чел. в начале 1942 г. [Чирков, 1973. С. 266]. Эвакоконтингенты воспитанников РУ, ЖУ и школ ФЗО распределялись в соответствии со своей специализацией. На 10 декабря 1941 г. из 7 726 учащихся, поступивших в Новосибирскую область, на предприятия Кузбасса были направлены 4 953 чел., Новосибирска – 1 717, Бердска – 434, Томска – 622 чел. 1 Такое распределение обуславливалось тем, что более половины «ремесленников» и «фзэуш-ников» приехали из Донбасса. В связи с этим они привлекались в угольную и металлургическую промышленность для продолжения обучения по искомым профессиям.
Обеспечение трудоустройством по специальности квалифицированных работников, эвакуировавшихся индивидуально и размещенных в сельской местности, также можно рассматривать как ограничительный «клапан» социально-трудовой мобильности мигрантов. Но этот механизм функционировал лишь при наличии соответствующих вакансий. В докладной записке о проверке состояния эвакуированного населения в Ко-ченевском районе Новосибирской области от 15 сентября 1942 г. отмечалось, что ряд прибывших специалистов продолжали трудиться на своих должностях. Например, Гри-гель занял должность заместителя директора конторы Заготзерно, Овчаров – председателя Райпотребсоюза, Ситников – старшего налогового инспектора, Абрамюк – председателя райплана, Токман – заведующего учебной частью средней школы, Слободюк – агронома, Кильческая – заведующего кадрами райисполкома, Иванова – старшего инспектора статучета ЦСУ, Червинка и Феляберт – учителя 2. Эти специалисты, отличавшиеся высокой квалификацией и богатым опытом работы, сохраняли свой профессиональный статус и в западносибирском тылу.
Социально-профессиональным стимулом трудовых перемещений служила подготовка кадров из числа неработающего эваконасе-ления или не имевшего возможности трудоустроиться по специальности. На предприятиях действовала система профессионального обучения нового кадрового пополнения из среды домохозяек, школьников, студентов, служащих, колхозников. Ученики прикреплялись к опытным рабочим и мастерам, передававшим им в сжатые сроки элементарные технические знания и навыки. Данный метод производственной учебы применялся и к мигрантам, прибывшим из европейской части СССР. Освоение заводской профессии означало для многих из них смену прежнего социального статуса.
Следует отметить, что включение эваку-антов в рабочий класс западносибирского тыла было нелегким делом. Особенно трудно адаптировалась к оборонному производству молодежь, оторванная эвакуацией от семьи и родного дома. В этом смысле весьма показательна судьба 14-летнего подростка Давида Раппопорта, в одиночку уехавшего из прифронтового Днепропетровска в Новосибирск. Чтобы выжить в чужом городе, он поступил на завод им. Воскова учеником токаря. Первоначально юноше не удалось овладеть этой профессией и его отправили работать в подсобное хозяйство. Через некоторое время Раппопорт вернулся в цех и вновь начал посещать занятия по техминимуму, перенимать производственный опыт у стахановцев. После получения квалификации он стал одним из лучших токарей завода им. Воскова, руководителем комсомольско-молодежной бригады, делегатом II съезда рабочей молодежи 3. Данный пример весьма ярко отражает и житейскую драматичность, и успешность вынужденных социальных перемещений людей, заброшенных войной в Западную Сибирь с другого края страны.
В отличие от предприятий, в колхозах и совхозах подготовка квалифицированных работников из эваконаселения осуществлялась на специальных курсах. 24 марта 1942 г. исполком Тяжинского района Новосибирской области принял решение о создании курсов трактористов для граждан Латвийской ССР. С целью привлечения латвийцев к обучению по этой специальности «курсистам» предлагались месячная стипендия в размере 200 руб. и отдельное питание. Всего планировалось подготовить 30 трактористов в основном из числа уроженцев прибалтийских городов, впервые осваивавших сельскохо- зяйственную профессию [Во имя Победы…, 2005. С. 110, 111].
Но далеко не все из размещенных в колхозной деревне рабочих и специалистов могли быть использованы в аграрном производстве. В 1943 г. в Алтайском крае насчитывалось 24 тыс. незанятых эвакуантов [Там же. С. 223]. Значительную часть из них составляли бухгалтеры, техники, инженеры, учителя, врачи, неустроенные на работу в сельских районах региона. Тяжелое материальное положение семьи вынуждало представителей интеллигенции трудиться не по специальности. Так, в колхозе им. Ворошилова Ояшинского района Новосибирской области кандидат медицинских наук К. Г. Вильгельм занимался перевозкой сена, доцент И. И. Велыш – преподаванием в школе 4. Эти специалисты перемещались по нисходящей социально-профессиональной траектории, приводившей к существенному понижению их статуса. Необходимо было создать условия для их перехода на высококвалифицированные рабочие места, чему способствовали меры по приоритетному материальному снабжению персонала важнейших предприятий и учреждений западносибирского тыла.
Материально-бытовые ограничения трудовой мобильности были связаны с сохранением заработной платы и выплатой «подъемных» персоналу эвакуированных предприятий, обеспечением его жилплощадью, промтоварами и продовольствием. С момента начала эвакуации до налаживания выпуска продукции на новом месте труженикам заводов и фабрик выплачивался средний заработок за последние три месяца. После прибытия в тыловые районы заводчанам выдавались пособия: главе семьи – месячный оклад, жене – четверть, остальным членам – по одной восьмой оклада [Потемкина, 2006. С. 45]. В целом, эвакуированные кадры получали денежную помощь, позволявшую дирекциям заводов закрепить их на производстве.
Наряду с финансовой поддержкой, для рабочих, ИТР, служащих и их семей в крупных городах ускоренными темпами строилось или освобождалось жилье. В годы вой- ны в Омске было введено в эксплуатацию 120 тыс. кв. м жилплощади, Новосибирске – 250 тыс., Алтайском крае – 100 тыс. [Рабочий класс Сибири…, 1984. С. 141]. Эваконаселе-ние размещалось в бараках и землянках, в освобожденных жилых или служебных помещениях в первоочередном порядке. С этой целью по постановлению Новосибирского горкома ВКП(б) от 17 октября 1941 г. за счет выселения организаций из города планировалось получить 39,5 тыс. кв. м жилплощади, уплотнения и двухсменной работы местных учреждений – 21,5 тыс., уплотнения населения – 27 тыс., выселения части горожан – 7,5 тыс., строительства и оборудования жилья упрощенного типа – 67 тыс. кв. м [Оборонная промышленность…, 2005. С. 164, 165]. Благодаря данным мероприятиям на новосибирском заводе им. В. П. Чкалова в домах предприятия было поселено 1 460 семей беженцев, в домах учреждений и организаций города – 1 700 семей, в общежитиях для одиноких – 2 225 чел., за счет уплотнения – 5 000 семей [Оборонная промышленность…, 2005. С. 165, 166]. Выделенный жилой фонд завод использовал, прежде всего, для сохранения эвакуированных работников.
Вместе с решением жилищной проблемы, организованно прибывший в Западную Сибирь производственный персонал и его семьи включались в систему нормированного снабжения. Продовольственная «корзина» распределялась по четырем группам городского населения: рабочие и ИТР, служащие, иждивенцы, дети до 12 лет. Каждый из этих контингентов горожан получал продукты питания по особым нормам. Рабочие и ИТР, относившиеся к первой и второй категориям снабжения, обеспечивались наиболее весомыми пайками. По карточкам им выдавали в день соответственно 800 и 600 г хлеба, в месяц – 800 и 600 г сахара и кондитерских изделий, 2 200 и 1 800 г мяса и рыбы, 600 и 400 г жиров, 1 500 и 1 200 г крупы и макарон. У служащих первой и второй категорий уровень обеспечения продовольствием был ниже, чем у рабочих и специалистов: 500 и 400 г хлеба, по 600 г сахара, по 1 200 г мяса или рыбы, по 300 г жиров, по 800 г крупы и макарон [Букин, Тепляков, 1992. С. 8]. В целом карточная система являлась инструмен- том конструирования в тыловых городах социально-профессиональной стратификации, позволявшей закреплять квалифицированные кадры в ведущих отраслях народного хозяйства. В условиях западносибирского тыла к этим кадрам в первую очередь относились труженики эвакуированных предприятий.
Материально-бытовыми стимулами социально-трудовых перемещений для неработающих эвакуантов служили заработок, жилищное и продовольственное обеспечение работников военной экономики. Наиболее высокой оплата труда была в оборонном производстве, наименее – в колхозном. В 1943 г. в тяжелой индустрии Новосибирска заработная плата рабочих составляла 567 руб., в том числе в «оборонке» – 629 руб., в 1944 г. – 666 и 713 руб. За годы войны на авиазаводе им. В. П. Чкалова их зарплата выросла с 577 до 788 руб., в то время как у основной массы рабочих и служащих Западной Сибири – с 279 до 499 руб. [Савицкий, Романов, 2014. С. 166, 167]. Такой заметный разрыв в денежном поощрении побуждал низкооплачиваемый конторский персонал претендовать на более высокооплачиваемые производственные вакансии. Данный фактор выступал в качестве одного из стимулов перемещения служащих эвакуированных учреждений и организаций в категорию индустриальных рабочих.
В свою очередь, незанятые члены семей эвакограждан рассматривали высокий заработок как важный источник пополнения семейного бюджета. Данные обстоятельства побуждали иждивенцев к занятости на предприятиях, приводившей к изменению их социальной позиции. В колхозной деревне эвакуанты работали за трудодни, оплачивавшиеся зерном по остаточному принципу. В связи с этим оказавшиеся в сельской местности горожане нередко отказывались от трудоустройства в колхозах, трудились там недобросовестно или уезжали в город для поиска наиболее приемлемо оплачиваемой работы на предприятиях.
В условиях военного времени более существенным стимулирующим механизмом трудовой мобильности незанятого эвакона-селения являлись преимущества в жизнеобеспечении производственного персонала. Одним из этих преимуществ выступало выделение городского жилья для семей прибы- вавших из прифронтовой полосы рабочих, специалистов и служащих. Остальные эва-куанты размещались в сельских районах. В распоряжении Новосибирского облисполкома от 3 декабря 1941 г. о размещении эвакуированного населения отмечалось, что в г. Кемерово прибывала масса людей, не связанных с перебазированными туда предприятиями и учреждениями, и занимала дефицитную жилплощадь. Руководство облисполкома обязывало Кемеровский горисполком выявлять и отправлять таких новоселов в колхозы и совхозы Кемеровского, Крапивинского и Барзасского районов [Во имя Победы…, 2005. С. 153]. В данной ситуации трудоустройство на предприятии позволяло им закрепиться в городах Западной Сибири, а членам семей эвакуированных рабочих и специалистов – не потерять также связь с близкими родственниками.
Принадлежность к рабочему классу позволяла эваконаселению рассчитывать на улучшение продовольственного снабжения. По карточкам иждивенцам в день выдавалось 400 г хлеба, в месяц – 400 г сахара и кондитерских изделий, 500 г мяса или рыбы, 200 г жиров, 600 г крупы и макарон [Букин, Тепляков, 1992. С. 8]. Паек рабочих и ИТР по основным продуктам превышал эти нормы в полтора – четыре раза, что побуждало эвакуированных домохозяек, учащихся, студентов к освоению именно производственных профессий. В конце 1942 г. на новосибирский завод № 386 вместе с родителями прибыла 14-летняя ленинградка Анастасия Матвеева, устроенная на должность табельщика. Однако табельщик мог рассчитывать на 500 г хлеба в день, в то время как рабочий – на 800 г. Чтобы заслужить больший паек, девушка добилась перевода из служащих в работницы производства боеприпасов [Букин, 2001. С. 96]. Следовательно, в ряде случаев нормированное снабжение служило профессиональному продвижению эвакуантов, успешно осваивавших заводские специальности.
Тяготы военной поры существенным образом ослабляли влияние материально-бытовых стимулов на динамику трудовой мобильности эвакуантов. На 22 мая 1943 г. в Новосибирской области по разным причинам не работали 73,2 тыс. эвакограждан, в том числе из-за отсутствия одежды и обу- ви – 57,3 тыс., мест в детских садах и яслях – 13,4 тыс., выплаты денежных аттестатов семьям начсостава РККА и ВМФ – 2,5 тыс. чел. [Во имя Победы…, 2005. С. 203]. Согласно докладной записке инспектора отдела СНК РСФСР о состоянии трудового устройства и бытового обслуживания эвакуированного населения от 1 ноября 1943 г., одним из факторов нетрудоустроенности беженцев в Западной Сибири являлось отсутствие у матерей возможности в рабочее время оставить детей под надежным присмотром. В Алтайском крае из-за наличия малолетних детей не были заняты примерно 12–13 тыс. приезжих женщин, в Омской области – 6,8 тыс. Попытки областных советов переломить подобную ситуацию за счет расширения сети детсадов и яслей заканчивались неудачей. Например, решение Омского облисполкома по этому вопросу было выполнено на 25 % [Там же. С. 236]. Острая нехватка материальных ресурсов, затруднявшая разрешения социальных проблем, побуждала советское государство применять по отношению к незанятому эваконаселению меры мобилизационного характера.
Ограничение и стимулирование социально-трудовых перемещений в интересах военного производства осуществлялось также с помощью административных рычагов. В первом случае их действие распространялось на рабочих, ИТР и служащих эвакуированных заводов и фабрик. По постановлению СНК СССР от 23 июля 1941 г. «О предоставлении Совнаркомам республик и край(обл) исполкомам права переводить рабочих и служащих на другую работу» правительства союзных и автономных республик, исполкомы краевых и областных советов получили административный ресурс, позволявший перемещать персонал важнейших предприятий и учреждений в другие регионы. Отказ от служебного перевода квалифицировался как самовольный уход с места работы, на который распространялись уголовные нормы Указа Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Согласно данным нормам уклонение от организованной эвакуации могло закончиться для трудящихся судебным преследованием и тюремным заключением на срок от двух до четырех месяцев. В связи с этим участие в эвакуационных мероприятиях становилось обязанностью персонала перебазировавшихся в глубокий тыл производственных объектов.
По прибытию в Западную Сибирь труженики эвакуированных заводов оборонного значения оказывались под действием Указа ПВС СССР от 26 декабря 1941 г. «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий». Работники ведущих отраслей военной экономики получали статус мобилизованных, а самовольный уход с производства рассматривался как «дезертирство». «Дезертиры трудового фронта» находились под юрисдикцией военных трибуналов НКВД, применявших к ним в качестве наказания тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет. По Указу ПВС СССР от 29 сентября 1942 г. «О переводе на положение мобилизованных рабочих, служащих и инженерно-технических работников в близких к фронту районах» подобные нормы уголовного права проецировались на уклонение квалифицированных производственников от эвакуации из прифронтовых регионов. Данные меры способствовали сохранению кадровой основы оборонных заводов, оборудование которых вывозилось в том числе и в Западную Сибирь.
Чтобы использовать незанятое эваконасе-ление в отраслях народного хозяйства, советскому государству, напротив, приходилось активизировать социальные перемещения. С этой целью широко применялась трудовая мобилизация неработающих горожан и селян, включая вывезенных в тыловые районы домохозяек, учащихся и студентов, членов семей начсостава РККА и ВМФ и т. д. Во втором полугодии 1941 г. в Новосибирской области (в границах на 1 января 1941 г.) в промышленность, строительство и на транспорт были призваны 128 тыс. чел. Более 90 % данного контингента составляли эвакуированные (114 тыс. чел.) 5. После принятия Указа ПВС СССР от 13 февраля 1942 г. мобилизационные кампании, уклонение от которых преследовалось в уголовном порядке, стали основным механизмом вовлечения людского потенциала в военную индустрию. Вместе с тем в первом полугодии 1942 г. доля эваку-антов в составе трудовых ресурсов, мобилизованных в ведущем индустриальном регионе западносибирского тыла, сократилась до 45 % 6. Данная тенденция обуславливалась сокращением численности безработных беженцев, востребованных в производстве. На 1 июля 1943 г. промышленность и транспорт Новосибирской области (в современных границах) по разнарядкам, утвержденным центральными или региональными властями, получили около 180 тыс. чел., включая 75 тыс. эвакуированных [Докучаев, 1973. С. 225]. Удельный вес мигрантов из европейской части СССР составлял не менее 40 % новых рабочих рук, влившихся в основные сферы военной экономики региона.
Трудовые мобилизации служили также средством привлечения эвакуантов к выполнению сезонных работ в сельском хозяйстве. Согласно Постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 13 апреля 1942 г. «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей» в аграрное производство призывались горожане и селяне, неработающие в промышленности и на транспорте, служащие, учащиеся шестых – десятых классов, студенты техникумов и вузов. Руководствуясь этой директивой, Кемеровский горисполком в мае 1942 г. направил в сельское хозяйство Кузбасса 3 380 школьников, 1 049 студентов, 5 060 учащихся школ ФЗО и 13 544 служащих 7. Значительную часть этих контингентов составляло неорганизованное эваконасе-ление, целенаправленно перемещавшееся из крупного промышленного центра в колхозы и совхозы. Такое перемещение носило вынужденный характер, поскольку уклонение от призыва наказывалось в судебном порядке принудительными работами на срок до шести месяцев.
Иногда административно-репрессивные механизмы стимулирования занятости эвакуированных применялись вне рамок трудовых мобилизаций. Например, в отчете инспектора по эвакуации населения в Чере- пановском районе Новосибирской области Севериной от 22 января 1942 г. сообщалось, что среди трудоспособных беженцев в колхозах и совхозах не работают 56 чел. В ответ уполномоченный Управления по эвакуации населения Новосибирской области Матвеенко предложил инспектору за отказ от трудоустройства оформлять «материал с передачей дела в соответствующие органы» 8. Данный факт красноречиво свидетельствовал о стремлении отдельных аппаратных работников, обустраивавших эвакуированное население в западносибирских регионах, использовать угрозу уголовного наказания как стимул к его вовлечению в трудовую деятельность. Однако местные власти и уполномоченные по эвакуации избегали широкого применения репрессивных мер в отношении нетрудоустроенных эвакуантов, стремясь создать условия для их жизнеобеспечения, переквалификации или переезда на другое место жительства.
В годы Великой Отечественной войны одной из специфических черт социально-экономической политики советского государства являлся комплекс мероприятий по ограничению и стимулированию мобильности населения, эвакуированного в тыловые районы страны. Данная политика получила наиболее концентрированное выражение в Западной Сибири, которая в рассматриваемый период была весьма слабо обеспечена людскими ресурсами, имевшими важное хозяйственное значение. В связи с этим регулирование трудовых перемещений эваку-антов в регионе осуществлялось с помощью механизмов, приводившихся в действие за счет социально-профессиональных, материально-бытовых и административно-мобилизационных мер. Они включали предоставление высококвалифицированному персоналу и учащимся учебных заведений гострудре-зервов соответствующих рабочих и учебных мест (ограничения), различные способы подготовки и переподготовки кадров (стимулы), денежные и натуральные формы жизнеобеспечения (ограничения или стимулы), угрозу уголовного преследования за отказ от работы (ограничения или стимулы). При этом социально-профессиональные рычаги выполняли лишь одну функцию: сдерживали или акти- визировали социальные переходы эваконасе-ления, которые могли быть обусловлены его трудоустройством. В свою очередь, материально-бытовые и мобилизационные «инструменты» одновременно играли роль предохранительных клапанов и движущих пружин трудовой мобильности эвакограждан.
Следовательно, в процессе функционирования механизмов регулирования трудовых перемещений эваконаселения западносибирского тыла нашли отчетливое отражение две противоположные тенденции общегосударственной кадровой политики военного времени. Первая заключалась в сдерживании оттока наиболее опытных работников из оборонной и смежных с ней отраслей тяжелой промышленности, вторая – в активизации поступления незанятых эвакуантов в отрасли народного хозяйства. Данные тенденции обеспечили приоритетное использование эвакуированных людских ресурсов в интересах развития региональной экономики Западной Сибири, непосредственно связанного с укреплением обороноспособности СССР в условиях мировой войны.
Список литературы Социально-трудовые перемещения эваконаселения в западносибирском тылу (1941-1945): ограничения и стимулы
- Акулов М. Р. Промышленное развитие Сибири в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Ставрополь: Ставр. правда, 1967. 331 с.
- Букин С. С. Завод «Искра» в годы Великой Отечественной войны. Исторический очерк и воспоминания ветеранов. Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2001. 111 с.
- Букин С. С., Тепляков А. Г. Продовольственная проблема в городах Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны//Проблемы труда и быта городского населения Сибири (1940-е -90-е годы): Сб. науч. тр. Новосибирск, 1992. С. 6-34.
- Во имя Победы: эвакуация гражданского населения в Западную Сибирь в документах и материалах (1941-1942): В 3 т./Сост. и отв. ред. Л. И. Снегирева. Томск, 2005. Т. 1: Исход. 339 с.; Т. 2: На сибирской земле. 376 с.
- Докучаев Г. А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. М.: Наука, 1973. 422 с.
- Докучаев Г. А. Решение проблемы кадров в период Великой Отечественной войны//В грозные годы: Тр. науч. конф. «Сибиряки -фронту». Омск, 1971. С. 41-50.
- Докучаев Г. А. Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны. М.: Наука, 1968. 320 с.
- Оборонная промышленность Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны: Сб. док./Под ред. И. М. Савицкого. Новосибирск: ОГУ «Государственный архив Новосибирской области», 2005. 873 с.
- Петрова В. Т. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по усилению творческого содружества науки с производством в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Томск: Изд-во ТГУ, 1968. 389 с.
- Потемкина М. Н. Эваконаселение в Уральском тылу (1941-1948 гг.). Магнитогорск, 2006. 264 с.
- Потемкина М. Н. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны на Урале: люди и судьбы. Магнитогорск, 2002. 264 с.
- Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социализма. Новосибирск: Наука, 1984. 376 с.
- Савицкий И. М., Романов Р. Е. Рабочие, инженеры и техники оборонной промышленности Западной Сибири -фронту (1941-1945). Новосибирск: ООО «Сибирское книжное издательство», 2014. 412 с.
- Снегирева Л. И. Трудоустройство эвакуированного населения в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2010. Т. 9, вып. 1: История. С. 204-211.
- Федотов В. В. Эвакуированное население в Среднем Поволжье в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Самара, 2009. 198 с.
- Чирков А. Д. К вопросу о подготовке квалифицированных рабочих в Сибири (1941-1945)//Народы Сибири в Великой Отечественной войне. Кызыл, 1973. С. 264-274.
- Щеголев К. М. Участие эвакуированного населения в колхозном производстве Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны//История СССР. 1959. № 2. С. 139-145.