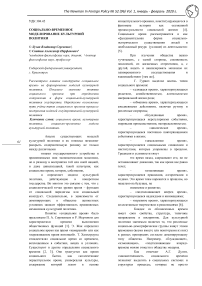Социально-временное моделирование культурной политики
Автор: Лузан Владимир Сергеевич, Свитин Александр Парфенович
Журнал: The Newman in Foreign Policy @ninfp
Статья в выпуске: 52 (96), 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрено влияние конструкта «социальное время» на формирование моделей культурной политики. Показано значение понятия социального времени при определении содержания и форм социальной-культурной политики государства. Определены возможные пути учёта типов социального времени процессе построения моделей государственной культурной политики.
Социальное время, культурная политика, социально-временные модели культурной политики
Короткий адрес: https://sciup.org/14124097
IDR: 14124097 | УДК: 304.42
Текст научной статьи Социально-временное моделирование культурной политики
Анализ существующих моделей культурной политики и их генезиса позволяет раскрыть содержательную разницу не только между различными типами государственного устройства и применяемыми ими экономическими моделями, но и разницу в восприятии той или иной нацией, и даже цивилизацией, такой категории, как социальное время, которое, собственно, и определяет модели культурной политики, действующие в конкретном государстве. Во многом это связано с тем, что с социологической точки зрения время – функция от социальной парадигмы или социальный конструкт. Следовательно, в зависимости от доминирующих в обществе ценностных установок зависит эффективность применяемых механизмов культурной политики.
Понятие «социальное время» было предложено П. А. Сорокиным и Р. Мертоном для характеристики времени выполнения общественных функций [1]. Э. Жак определял социальное время как время «намерений» или как «переживаемое время интенций». Т. Хагестраунд отождествлял социальное время со временем, воплощенным в событиях, вещах и условиях. Существуют и другие определения социального времени [2, 3]. Оно трактуется как время социального бытия, как «коллективное перцептуальное время, универсалия культуры, содержание которой лежит в основе концептуального времени, конституирующегося в феномене истории как осознанной процессуальности социальной жизни» [4]. Социальное время рассматривается и как «фундаментальная форма социальноисторического существования людей и необходимый ресурс (условие) их деятельности» [5].
При изучении общества важно «учитывать, с одной стороны, сменяемость поколений, их жизненных стереотипов, а, с другой, видеть и анализировать механизм их одновременного сосуществования и взаимодействия» [там же].
Г. Гурвич выделил восемь типов социального времени:
– «длящееся время», характеризующееся родством, семейственностью, длительностью инерциальной жизни рода;
– «обманное время», характеризующееся ежедневными действиями, включая рутину и различные сюрпризы;
– «блуждающее время», характеризующееся нерегулярными событиями, мировыми происшествиями, неопределенностью;
– «циклическое время», характеризующееся постоянно повторяющимися событиями в жизни;
– «замедленное время», характеризующееся социальными символами и институтами, которые укоренены в прошлом. Традиции и условности тянут это время назад, сдерживают его, но не останавливают движения, так как время все равно течет;
– «изменяющее время», характеризующееся правилами, алгоритмами и кодами. Это время тоже коренится в прошлом, но нацелено на будущее, на изменение и развитие;
– «подталкивающее вперед время», характеризующееся надеждами и инновациями;
– «взрывное время», характеризующееся коллективным творчеством и революциями [6].
Каждое из обозначенных времен имеет свои свойства, структуру, типичное направление и восприятие. Для культурной политики значимым является то, что различные социально-демографические группы живут этими временами (всеми вместе или некоторыми из них) в разных пропорциях согласно доминирующему типу общества. Например, «блуждающее», «изменяющее», «подталкивающее вперед» времена можно отнести к обществу модерна.
Как отмечает А.Г. Дугин, «множественность социального времени позволяет выделить в социальных системах и структурах процессы, которые не просто
развертываются с разной скоростью, но подчас имеют качественно иную природу и движутся в прямо противоположном направлении друг относительно друга. Так, модернизация одних сторон социальной жизни вполне может сопровождаться архаизацией других ее сторон. «Прогрессивные» движения деколонизации в Третьем мире теоретически должны приводить к формированию буржуазных наций и демократических режимов. Но так происходит далеко не всегда, а если и происходит, то это вполне может таить под собой иной смысл и сохранять и даже восстанавливать иные, автохтонные социальные институты» [7].
Так, например, расцвет исламского фундаментализма репрезентант того, как вместо ожидаемого развития по западному пути определенные локальные общества сворачивают в совершенно ином направлении.
Существующие в научном дискурсе типологизации моделей культурной политики позволяют зафиксировать принципиальное различие между рассмотрением культурной политики на теоретико-методологическом уровне и на уровне конкретных управленческих решений. В результате имеющиеся трактовки понятия «культурная политика» и типологизации моделей культурной политики рассматриваются без привязки к фундаментальной категории «социальное время», что приводит к нивелированию учета специфики развития различных типов обществ (премодерн, модерн, постмодерн).
Это особенно актуально для Российской Федерации, так как в силу географических, административнотерриториальных и культурных особенностей, следует констатировать сосуществование в современной России всех трех типов. Так, в парадигме премодерна находятся жители отдаленной сельской местности и коренные народы, ведущие традиционный образ жизни (включая кочевой); общество модерна наиболее ярко можно проследить на примере крупных городов, образующих агломерации с близлежащими сельскими территориями – в данной парадигме проживает подавляющее большинство жителей страны; в качестве репрезентанта парадигмы постмодерна выступают два основных российских кластера (Москва–Санкт-Петербург и Томск– Новосибирск), характеризующихся высокими темпами внедрения цифровой экономики и занятостью населения в сфере услуг, применением автоматики и робототехники на производствах, особым форматам информационного и медиапространства, динамичными формами социальности, их непостоянством, формированием нового типа виртуальных и динамичных сообществ в глобальном масштабе, особой значимостью культурных и креативных индустрий.
Таким образом, приходим к выводу, что моделирование культурной политики имеет смысл только по отношению к конкретным государственным образованиям и типам государственного устройства и не предполагает прямого копирования и повторения аналогичных результатов в иных государственных образованиях. Более того, реализация культурной политики даже в пределах отдельно взятого государства должна предполагать такие механизмы, которые учитывают мировоззренческие особенности развития каждого из типов обществ, формирующих данное государство.
Список литературы Социально-временное моделирование культурной политики
- Sorokin P., Merton R.R. Social Time: A Methodological and Functional Analysis // American Journal of Sociology. 1937. V. 42. N 5. P. 615-629.
- Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время в поисках утраченного. М., 1997.
- Зарубин А.Г. Социальное время и особенности изменения его свойств в периоды общественно-политических кризисов // Вестник Ростовской гос. эконом. академии. 2000. № 2 (12).
- Новейший философский словарь. - Минск: Книжный Дом. А.А. Грицанов. 1999.
- Понятийно-терминологический словарь. - Ростов-на-Дону, Б.Б. Прохоров, 2005.
- Gurvitch G. The spectrum of social time. Dordrecht: D. Reidel, 1964. 152 p.
- Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический Проект; Трикста, 2010. 150 с.