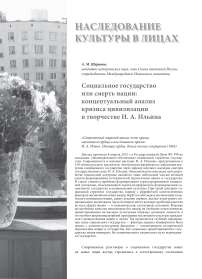Социальное государство или смерть нации: концептуальный анализ кризиса цивилизации в творчестве И. А. Ильина
Автор: Шарипов Александр Михайлович
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Наследование культуры в лицах
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170173750
IDR: 170173750
Текст статьи Социальное государство или смерть нации: концептуальный анализ кризиса цивилизации в творчестве И. А. Ильина
А. М. Шарипов, кандидат исторических наук, член Союза писателей России, сопредседатель Международного Ильинского комитета
Социальное государство или смерть нации: концептуальный анализ кризиса цивилизации в творчестве И. А. Ильина
«Современный мировой кризис есть кризис заглохшего сердца и восставшего праха»
И. А. Ильин. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний (1943)
Доклад прочитан 8 апреля 2013 г. в Государственной Думе ФС РФ на заседании «Законодательное обеспечение социальной стратегии государства. Современность и научное наследие И. А. Ильина», приуроченном к 130-летию русского мыслителя. Автором рассматривается социальная доктрина современного государства через призму научного наследия доктора государственных наук И. А. Ильина. Экономические выкладки при разработке социальной доктрины являются лишь небольшой частью великой задачи формирования исторической перспективы нации и государства. В статье ставится проблема формирования структурированной социальной доктрины, объединяющей задачи непрерывного формирования социального государства и национальной культуры. При такой доктрине социальной стратегии государство, наряду с разработкой количественных факторов жизнеобеспечения нации, берёт на себя задачу активизации творческого потенциала нации, задачу духовно верного, высоко культурного национального воспитания. Здесь на первое место выходит проблема качества во всех сферах жизни — в экономической, культурной, духовной. Решение же проблемы качества невозможно без опоры на свободно-ответственную, ориентированную на высокие культурные образцы духовную личность, а это требует широкомасштабной программы воспитания культуры гражданского правосознания нации в целом. Так проявляется глубокая неразрывная связь социального государства — фактора защиты комфортного быта нации, с духовно-культурным фактором — катализатором исторической перспективы нации и государства. Без социально ориентированного государства нация вымирает, без национального творческого духа вырождается государство.
Современные разговоры о социальном государстве вовсе не новы: люди всегда стремились к естественному состоянию благополучия. Другое дело, как понимать эти «благополучие» и «социальность», как понимать самоё государство. Если исходить из понимания благополучия как материальной обеспеченности, то это достаточно урезанное понимание сущности человека. Ведь как бы ни стремились некоторые идеологи принизить уровень человеческого бытия до материальнопотребительских интересов, история показывает совершенно обратное: каждая эпоха имела в основе своего развития именно идеи. Римская империя жила и расширялась внутренней идеей созидания внешнего порядка — распространения цивилизации и законности на весь окружающий мир. Христианский Рим средневековья жил идеей распространения религиозной веры по всему миру. Идеей правоверия жил мусульманский Восток, поисками гармонии внутреннего и внешнего мира — буддийский мир. При этом в каждой нации всегда существовал ведущий культурный слой, который задавал определённый ритм жизни общества, указуя на идеалы и организуя справедливую общественную жизнь в той мере, в какой это было доступно для своего времени.
Только в XVIII в. идея гармонизации духовной и материальной сторон жизни отрывается от религиозных корней: Французская революция уводит политику от смысловых целей, духовных устремлений и акцентирует внимание на вопросах социально-экономического порядка. Вскоре оставшемуся без Неба человечеству была предложена под вывеской «научная» идеология марксизма. Если буржуазная идеология сохраняла вековые атрибуты нравственности и социальной благонадёжности, т. е. идеи семьи, честного труда, национального бытия, то марксизм вслед за религией отринул и семью, и нацию, и культуру. Марксизм стал воистину идеологией земного потребления без всякой оглядки на морально-нравственные ограничения. Причём в отличие от социал-демократической идеи свободного и честного труда, марксизм весь свой дискуссионный жар направляет на идею «справедливого распределения».
Отметим и такую немаловажную деталь: марксизм (наряду с анархизмом) отринул национально-охранительную роль государства и обозначил государство «орудием насилия и эксплуатации». И эта идея отрицания государств — тесно связана с его отрицанием наций и религий. А ведь со времён Рима и до Гегеля государство было «шествием Бога на земле», орудием защиты его жителей от произвола, наций — от внешнего посягательства. Теперь идее национальной государственности был брошен вызов.
Как верно писал Ильин, «государства держатся правосознанием своих граждан и своих правителей»1. В России же к началу ХХ в. противогосударственные идеи получили самое широкое распространение: вспомним пропаганду анархистов, толстовцев, левых социалистов. Антигосударственные пропаганда и терроризм нигилистов расшатывали национальное правосознание, в результате отказ народа видеть в собственном государстве защитника своих интересов привело к гибели вековой цивилизации.
Получается парадокс. Новое время возвеличило разум и стремилось дать схемы устроения справедливой земной жизни на рассудочнорациональных основаниях, отрицая излишнюю чувственность и мистику. Почему же поставивший себя впереди всех чувств разум породил в ХХ в. чудовища революционных и империалистических войн с их многомиллионными кровавыми жертвами?
Философ права Ильин определил истоки социальных кризисов в сферах далёких от внешнематериальных. Революционное разложение государства, указывает учёный, — «лишь зрелые плоды или проявления уже состоявшегося внутреннего разложения», «духовного распада»2. Для здорового существования государства, оно должно иметь в глазах его граждан значение единого и единственного компетентного источника права», и издаваемые им законы призваны формулировать естественную правоту в виде положительных норм3. Как «всякое искусство призвано создавать гармонию», так каждое государство призвано к формированию «социальной гармонии»4. Но как произведение искусства имеет ценность не материальной стороной, но воспринимаемым воспитанным художественным вкусом образом, так и государственная форма и законы имеют ценность только тогда, когда их верно воспринимает здоровое гражданское правосознание. А правосознание это не столько элемент рационального осмысления, сколько явление культуры. Авторитет государства и созданных им законов, отмечает Ильин, есть «всенародное, исторически накапливающееся достояние», которое «слагается из поколения в поколение», которое «живёт в душах незримо, но определяюще». Именно такой живущий в душе авторитет государства и закона спасает государство от распада («призван служить орудием национального спасения»5).
Хотелось бы обратить внимание на это абсолютно нерационалистическое, антипозитивист-ское, я бы сказал, культурологическое понимание выдающимся правоведом права и правосознания, а также государства, и далее — общества и нации, и, в конечном смысле, человека.
Что есть государство — «органическое единение живых людей, одарённых честью, совестью и правосознанием, или бюрократическая машина?»6 Ильин никогда не отрицал внешние атрибуты государства: конечно, «государственное дело состоит в том, что власть указывает людям их права, обязанности и запретности, и понуждает их соблюдать указанное — не превышать своих прав, исполнять свои обязанности, не нарушать запретов. В этом заложены две идеи: идея права (свободного лица, законности и справедливости) и идея принуждения (угрозы, силы, суда и возмездия)7. И тем не менее «внешние проявления политической жизни совсем не составляют самую политическую жизнь; внешнее принуждение, меры подавления и расправы... совсем не определяют сущность государства». «Государство творится внутренно, душевно и духовно; и государственная жизнь только отражается во внешних поступках людей, а совершается и протекает в их душе; её орудием, или органом является человеческое правосознание»8.
Да, «право и государство возникают из внутреннего, духовного мира человека, создаются именно для духа и ради духа и осуществляются через посредство правосознания9. Видя в человеке самостоятельную духовную личность, Ильин и государство определяет как «некую духовную общину», «живое духовное единство», «единство культуры, власти и исторической судьбы»10. Учёный подчёркивает: «духовная солидарность граждан между собою составляет реальную основу государства и политики»11. Потому он объединяет задачи строительства социального государства и национальной культуры, ибо «истинное государственное настроение души возникает из искреннего патриотизма»12. Для Ильина по-прежнему, как века до этого, государство, наряду с хозяйственными и правовыми, имеет задачу национального воспитания — духовно верного, высококультурного.
Как объяснить некоторым современным политикам, утерявшим национальное чувство солидарности, а зачастую обычную человеческую любовь к своей культуре, эти простейшие истины духовной солидарности людей одной судьбы? Меня часто поражают чиновники, любящие называть себя «трудоголиками», но абсолютно утерявшими за политической суетнёй глубинный смысл своего бытия и не умеющие услышать красоту родного напева, не перечитывавшие со школьных лет гениальных Пушкина, Гоголя, Шолохова... Как они могут строить культурную страну, когда для них культурная политика ограничивается бюджетным финансированием рок-фестивалей и попсовых «евро-видений»?
Ильин отмечает духовную природу основанного на национальной культуре патриотизма13.
Он пишет: «Сливая мою жизнь с жизнью моей родины, я испытываю дух моего народа как безусловное благо и безусловную силу, как некую Божию ткань на земле»14. Здесь проявляется удивительное явление любви к Отечеству: «В патриотическом единении люди любят свой народ в его духовном своеобразии и верят в духовную силу и духовное творчество своего народа»15.
Ильин формулирует закон человеческой природы и культуры: «всё великое может быть сказано человеком или народом только по-своему, и всё гениальное родится именно в лоне национального опыта, духа и уклада»16. Причём независимо от личной одарённости и социального положения, участником национального философского и метафизического дела, творцом национальной культуры становится каждый человек, «поскольку он в жизни своей ищет истинного знания, радуется художественной красоте, вынашивает душевную доброту, совершает подвиг мужества, бескорыстия или самопожертвования, молится Богу добра, растит в себе или в других ... политический смысл или даже просто борется со своими уничижающими дух слабостями»17. Во всенародном творении национальной культуры нет ни одного усилия, ни одного достижения, которое пропало бы даром, «драгоценно каждое личное состояние», «ибо всякое усовершенствование, всякое просветление в человеческой душевной ткани незаметно живёт и размножается и передаётся во все стороны, никогда не исчезая бесследно»18.
Иван Александрович Ильин отмечает также социальную и индивидуально-психологическую значимость национального: в национальном патриотическом слиянии людей «незаметно преодолевается то душевное распыление (психический «атомизм»), в котором людям приходится жить на земле». Преодоление «атомизма» вовсе не лишает человека самостоятельности, он остаётся «монадой», но «возникает могучее творчес- кое единение людей в обще и сообща творимом лоне — в национальной духовной культуре»19.
Только с точки зрения творчески осмысленной жизни можно понять убеждённость Ильина, что «государственная власть есть лишь средство и орудие, призванное служить некой высшей цели»20. «Пролганное государство, построенное на насилии, страхе и притворстве — есть организованная порочность: оно подрывает и угашает всякое взаимное доверие; оно извращает и обессиливает личную совесть и честь; оно лишает человеческую жизнь её божественного смысла и её творческой свободы»21. Отсюда понятна критика русским мыслителем формальной демократии наравне с тоталитаризмом: «Свобода есть нечто для духа и ради духа... Вне духа и против духа она теряет свой смысл и своё священное значение. Оторвавшись от духа, она обращается против него и попирает его священное естество. Обратившись против него, она перестаёт быть свободой и становится произволом и всепопиранием»22. При формальной демократии творческая личность растворяется в массе при отсутствии организующей роли ведущего культурного слоя нации. И потому при решении задач национально-государственного строительства Ильин на первое место выдвигает вопрос качества: «каждое государство призвано к отбору лучших людей» и «народ, которому такой отбор не удаётся, идёт навстречу смутам и бедствиям»23. Да, правовое государство должно защищать свободу личности, но с какой целью? Нынешним политикам надо ясно понять, что внешняя свобода, о которой так много говорят либеральные политики, нужна человеку для того, чтобы стать духовным центром, чтобы приобрести внутреннюю свободу24. Государство формальной демократии, не защищающее творческую жизнь нации от произвола и насилия, теряет свой смысл. Для современной России это очень большая проблема, к ре шению которой до сего дня не приступали.
Формальная государственная принадлежность, «не наполненная живой любовью гражданина к своей родине и к его народу», писал в прошлом веке великий русский патриот, приводит к появлению «целых слоёв мнимых граждан» — по национальным побуждениям (причисляют себя к другому народу), хозяйственным соображениям (заинтересованность в экономическом процветании иного государства), революционным мотивам (желание неудач своему государству). «Мнимые граждане» остаются чужды или враждебны государству, а то и его вредителями и предателями. При отсутствии солидарности нации как единой семьи с общими интересами, общей культурой и общей судьбой, разрастается «мера отсутствия правосознания, безнравственности, безразличия к родине, продажности и трусости», когда «государство не может более существовать,... оно оказывается не в состоянии поддерживать и ограждать культуру в мирное время, ни оборонять родину во время войны»25.
Из этого должно быть предельно ясно, почему в социальной концепции Ильина так много внимания уделяется проблеме качества национальной культуры. Заполонившие властные структуры люди без национальной культуры не чувствуют себя связанными с «этой страной» и с «этим народом». Они видят в «этой стране» только полигон для реализации своих амбиций, потому они никогда не поймут непреходящую ценность и глубину такого явления как национальная солидарность и духовное родство сплочённого единой исторической судьбой народа. И из понятия «социальное государство» ими всегда будут вымываться смыслообразующие понятия национальной культурной жизни, придающей этой жизни творческий оптимизм и историческую перспективу.
Поэтому чисто экономические выкладки при разработке доктрины социального государства и социальной стратегии являются лишь небольшой частью великой задачи формирования перспективной стратегии творческой жизни нации и государства. Наряду с разработкой количественных факторов жизнеобеспечения нации, архиважно развивать государственную программу реализации творческого потенциала российской нации. И тогда задачей российской цивилизации будет уже не формирование общества потребителей, а творческих личностей.
Преодоление того духовного кризиса, который ныне переживает человечество, не может быть достигнуто и не будет осуществлено одними «внешними» и «формальными» реформами. Дело не только в новых учреждениях и законах; дело в обновлении правосознания. Первое и последнее, решающее слово остаётся за самим духом... Только на этом пути можно верно и творчески обновить политическую и государственную жизнь26.
Социальное государство видится Ильиным гораздо шире, чем секуляризованной доктриной либералов-позитивистов. Полноценное социальное государство представляет собою солидарное общество, решающее задачи гармонизации частных и общественных интересов, обеспечения качественного уровня жизни — в духовной, национально-культурной (творческой), социально-экономической сферах. И всё это замыкается на лояльном правосознании, воспитанном национальным правовым государством в своих гражданах, для которых это государство — не механическая надстройка, но справедливый регулятор общественной, духовной и культурной жизни. В концепции Ивана Александровича Ильина социальный фактор обеспечивает достойный уровень для полноценного развития национально-культурной сферы; национальный жефактор —стимулирует социальнуюактивность и открывает перед обществом историческую перспективу, связывая её воедино с исторической ретроспективой. Социальное государство — фактор защиты комфортного национального бытия; национальный фактор — духовно-культурный катализатор исторической перспективы общества и государства. Социальное государство — защитная оболочка национального бытия; национальная культура — дух, определяющий смысл жизни социального организма. Без социально ориентированного государства нация вымирает, без национального творческого духа вырождается государство.
Список литературы Социальное государство или смерть нации: концептуальный анализ кризиса цивилизации в творчестве И. А. Ильина
- Ильин И. А. О свободной лояльности // Ильин И. А. Собр. соч. Кн. I. М., 1993. Т. 2. С. 230.
- Ильин И. А. Основная задача грядущей России // Ильин И. А. Собр. соч. Т. 2. Кн. I. С. 278.
- Ильин И. А. О сущности правосознания // Ильин И. А. Собр. соч. Т. 4. М., 1994. С. 297.
- Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний // Ильин И. А. Собр. соч. Т. 3. С. 374.
- Ильин И. А. Путь духовного обновления // Ильин И. А. Собр. соч. Т. 1. М., 1993. С. 106, 109, 192, 197, 199-200, 233-238, 241, 245, 252, 256.
- Ильин И. А. Путь к очевидности // Ильин И. А. Собр. соч. Т. 3. С. 199, 490.
- Ильин И. А. Религиозный смысл философии. Три речи. 1914-1923 // Ильин И. А. Собр. соч. Т. 3. С. 58-59.
- Ильин И. А. Россия в русской поэзии // Ильин И. А. Собр. соч. Т. 6. Кн. II. С. 204-205.
- Ильин И. А. Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий // Ильин И. А. Собр. соч. Т. 3. М., 1994. С. 177.
- Ильин И. А. Яд большевизма // Ильин И. А. Собр. соч.: Статьи. Лекции. Выступления. Рецензии (1906-1954) [Т. 14]. М., 2001. С. 366.