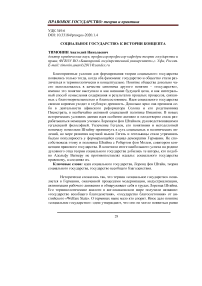Социальное государство: к истории концепта
Автор: Тимонин Анатолий Николаевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Общетеоретические и исторические проблемы формирования правового государства
Статья в выпуске: 1 (59), 2020 года.
Бесплатный доступ
Благоприятные условия для формирования теории социального государства появились только тогда, когда оба феномена: государство и общество стали различаться и терминологически и концептуально. Понятие общества довольно часто использовалось в качестве синонима другого понятия - «государство», именно это понятие выступало и как название будущей цели, и как интегральный способ осмысления содержания и результатов прошлых процессов, связанных с благотворительностью и благосостоянием. Идея социального государства своими корнями уходит в глубокую древность. Довольно ярко она проявила себя в деятельности афинского реформатора Солона и его родственника Писистрата, в необычайно активной социальной политике Византии. В новых исторических условиях данная идея особенно активно и плодотворно стала разрабатываться немецким ученым Лоренцом фон Штайном, руководствовавшимся гегелевской философией. Увлечение Гегелем, его понятиями и методологией поначалу позволяли Штайну проникнуть в суть социальных и политических явлений, но мере развития научной мысли Гегель и гегельянцы стали утрачивать былую популярность у формирующейся социал-демократии Германии. Не способствовала этому и полемика Штайна с Робертом фон Молем, соавтором концепции правового государства. В конечном итоге наибольшего успеха на родине духовного отца теории социального государства добились те авторы, кто подобно Адольфу Вагнеру не противопоставлял идеалы: социального государства правовому, а соединял их.
Идея социального государства, лоренц фон штайн, теория социального государства, государство всеобщего благоденствия
Короткий адрес: https://sciup.org/142234043
IDR: 142234043 | УДК: 349.6
Текст научной статьи Социальное государство: к истории концепта
Исторически сложилось так, что термин «социальное государство» появляется в Германии, охваченной процессами модернизации, индустриализации, активизации рабочего движения и обнаруживает себя в трудах Лоренца Штайна. Его терминологические аналоги в англосаксонском мире получили название: «государство всеобщего благоденствия», «государство благосостояния» от английского «Welfare State». О терминах ныне мало кто спорит. Иное дело понятие «социальное государство»: одни утверждают, что оно не могло появиться ранее эпохи модерна; другие же, рассматривая его в качестве социальной версии идеального государства, относят истоки такого государства к эпохе древности.
Такая точка зрения не представляется совершенно безосновательной хотя бы потому, что острейшая необходимость радикальных социальных реформ сознавалась и в античной Греции. Ярчайшим свидетельством тому служат знаменитые реформы Солона, умудрившегося за год провести в Афинах более ста реформ. Он смог обеспечить демосу доступ не только к собственности, но и к власти, спасти родной полис от гражданской войны. На родине реформатора даже его преемник – тиран Писистрат не посягал на законодательство своего родственника. Не случайно афиняне, с ностальгией вспоминая о времени его правления, не раз повторяли: «Тирания Писистрата – это жизнь про Кроносе». Не могли остаться равнодушными и величайшие мыслители античности.
Размышляя об идеальном государстве, Платон явно находился под влиянием начинаний Солона. Наиболее оптимальной политической формой, более всех других способной обеспечить согражданам «благую жизнь», Аристотель считал «политию» – умеренную демократию. Но их идеалам не суждено было сбыться. Вскоре вся Греция, разделенная на мелкие города-государства, была захвачена государствами-империями. Поэтому грекам пришлось надолго отложить попытки реализации какого-либо проекта государства.
Руководствуясь христианской парадигмой, средневековые греки смогли приступить к осуществлению желанной цели. Лучше всех обобщить весь теоретический фундамент новой, теперь уже византийской семьи народов и государей, выразить его в предельной точной и лаконичной формуле удалось Константину Философу: «Наше царство не римское, а Христово» [1, с. 24-25]. Налицо разрыв между двумя империями: языческой Римской и христианской Византийской, проявляющийся в образе «царства небесного». Несмотря на все чудовищные преступления, на все гнусные деяния, свершаемые собственной верхушкой «…простые люди империи верили, что Византия – священная земная империя и её благочестивый император представляет Бога перед людьми и людей перед Богом». Без констатации этой непоколебимой убежденности византийского простонародья трудно понять: почему «в течение одиннадцати веков – от первого Константина до одиннадцатого – конституция христианской Римской империи, была по сути неизменна» [2, c. 227].
Христианские идеалы определяли всю жизнедеятельность государства, церкви и общества. Не стала исключением в этом плане и социальная сфера – вся империя покрылась приютами для сирот и вдов, госпиталями для бездомных и нищих, больницами для прокаженных и немощных. В одной только имперской столице с 325 по 843 гг. существовало 59 странноприимных домов, 49 больниц, 22 приюта для неимущих, 10 домов для престарелых, 8 бань и зернохранилищ, 7 родильных домов, 6 лепрозориев, 2 детских дома и 1 дом для слепых [3, p.622].
Византийский вариант идеального государства был немыслим без образа идеального правителя. В число обязательных требований, предъявляемых к та- кому правителю, византийские авторы неизменно включали верность православию и справедливость. Словно откликаясь на повышенные запросы общества, адресованные правителю, византийские императоры стремились убедить своих подданных в том, что они преследует общую пользу и благоденствие всего государства. Таковы, например, Новеллы известного всему юридическому миру императора Юстиниана. Великие начинания требовали от подданных немалых денег. Небывалый рост налогов вызвал всеобщее недовольство, на фоне которого в Константинополе произошло крупнейшее народное восстание, грозившее уничтожить всю правящую верхушку империи. При Юстиниане налоговый гнет усилился настолько, что многие подданные желали его смерти, и когда это произошло, народные массы встретили известие о кончине великого императора с большим облегчением. Нельзя сказать, что социальная функция империи при Юстиниане сводилась к одной лишь законодательной фиксации пышных определений и высокопарных фраз. Напротив, «в дополнение к роскошным учреждениям, которые он устроил в различных городах и поселках империи, Юстиниан основал или отремонтировал несколько богаделен. Он отремонтировал богадельню, названную в честь св. Романа в Апамии, он построил новую в Босре и восстановил богадельни Kуриоса и Святого Конона. Он построил также приют для нищих на эмпориуме в общегородском порту Перги в Памфилии, который он посвятил Святому Михаилу» [4, p. 264].
Конечно же, самый большой приют для бедных существовал в самом большом городе империи – в Константинополе, который располагался около церкви св. Архипа и Филемона [5, р. 416-417]. Существовал здесь и целый комплекс социальных институтов, который был настолько велик, что Анна Комнина, повествуя о благих деяниях своего венценосного отца, свершенных и на социальной почве, называет его «Новым городом». Она сообщает: «Во главе этого многотысячного города стоит попечитель – некий знатный муж, название города – Приют. Приютом он называется благодаря человеколюбию самодержца по отношению к сиротам и бывшим воинам». Тогда же в – XII в. благодаря усилиям Алексея Комнина к приюту было добавлено много зданий, в которых за государственный счет проживало и содержалось множество бедных, слепых, хромых и людей с другими увечьями [6, с. 417-418].
Активная социальная политика в Византии рассматривалась как выполнение священного долга, как обязательство перед Богом и православным людом. Сострадание и милосердие к сирым и убогим, к нуждающимся были обязательны для всех византийцев, желавших после завершения земного пути обрести царство небесное. Забота о состоянии души после смерти была обязательна даже для императора, который должен был подражать Богу в трудах альтруистических не просто ради имитации, но чтобы угодить Всевышнему. Помимо религиозных побуждений благие дела могли свершаться в силу тщеславия, личного интереса, самолюбования, политической целесообразности и других эгоистических соображений.
Много, слишком много всегда было бедных и нищих, в то время как многие богатства по-прежнему оставались в руках немногих. Мало что делалось, чтобы предотвратить бедность как таковую и чтобы бедные стали совершенно независимы от кого-либо в материальном плане. Ни правящие круги всей империи, ни городские власти в провинциях не обеспечили бедным те условия, в которых они могли бы сами позаботиться о себе. В XIV столетии, в эпоху глубочайшего кризиса Византии Георгий Гемист настаивал на том, что только с восстановлением социальной справедливости можно было бы надеяться на подлинное возрождение империи. Все было тщетно: богатые и влиятельные магнаты только усилили эксплуатацию бедных и слабых [4, p, 286]. Самым пагубным для Византии стало открытое предательство магнатами интересов великой державы.
Конечно же, активизация социальной политики периодически наблюдалась не только на Востоке, но и на Западе. Но только тогда, когда оба феномена: государство и общество стали различаться и терминологически и концептуально в странах Западной Европы появились благоприятные условия для формирования теории социального государства. Понятие общества играло существенную роль в обсуждениях социальных проблем и способов их решения. Именно это понятие выступало и как название будущей цели, и как интегральный способ осмысления содержания и результатов прошлых процессов, связанных с благотворительностью и благосостоянием. Совершенно очевидно, что законы, направленные на борьбу с бедностью и нищенством, в Западной Европе появились задолго до социального законодательства Отто фон Бисмарка. Правда со временем, традиционные методы, обычно использовавшиеся для решения социальных проблем, такие как филантропия и «старые законы о бедных», стали неэффективными, а усилия властей улучшить условия жизни людей – недостаточными. Поэтому законы о бедных в течение второй половины XIX в. подверглись модернизации, которая была вызвана приростом населения, урбанизацией и индустриализацией. Особое значение принадлежало новому пониманию гражданских прав, порожденному Великой французской революцией. Повсеместно наблюдалась растущая важность «социальных вопросов», которые сопровождали процесс индустриализации, а борьба за их разрешение стала импульсом, направленным на утверждение социальных прав наряду с политическими правами [7, p. 26]. Все это стало возможным в результате активизации рабочих движений, конфликта интересов, классовой борьбы, достигшей наибольшей остроты во Франции XVIII-XIX вв.
Германский ответ на революционный вызов Франции не заставил себя долго ждать. В Германии, по меньшей мере, с начала XIX в., развивались интенсивные исследования самого феномена «государство» и его различения с «обществом». Одновременно участились поиски варианта общественнополитического развития альтернативного французскому. Лучше всех это удалось профессору Лоренцу Якобу фон Штайну. Уже в первых работах ему удалось доказать, что немцам следует отнестись к социалистическим идеям более внимательно, изучить их самым пристальным образом, хотя бы потому, что они были глубоко укоренены в европейской интеллектуальной традиции. Как и Гегель, Штайн не только разделял, но и противопоставлял друг другу «государство» и «общество». С точки зрения Лоренца Штайна «жизнь человеческого общежития состоит в постоянном воздействии и противодействии между государством и обществом, эта живая противоположность составляет истинное содержание истории всех народов» [8, с. XXXVII]. Будучи противником радикальных мер, он понимал, что движение к более гармоничному и добродетельному обществу будет долгим. Его подход к решению проблемы взаимодействия между государством и обществом строился на основе и органической концепции. Но все же главной оставалась философия Гегеля, руководствуясь которой он писал: «Государство стоит выше всего, выше общества как самая высокая и независимая власть; однако, развитие каждого человека - своя самая высокая задача» [9, р. 29].
Как и Гегель, он связывал свои сокровенные надежды с монархией. Полагая, что оппозиция монархии невозможна даже теоретически, Штайн утверждал, что пока существует возможность социальных конфликтов, монархии должны преобладать. Германскую монархию он мыслил себе в качестве «монархии социальной». Штайн ясно давал понять, что имел в виду вовсе не абсолютную монархию, избирая монархическую систему в качестве единственного способа устранения напряженности в социальных отношениях. Его монархический выбор свидетельствовал об отчетливо выраженной консервативной позиции.
Размышляя над революционными процессами, происходившими во Франции в 1848 г., он наблюдает прочное соединение социализма с демократией, рождение социал-демократизма, которому суждено великое будущее и в Германии. Только победа социал-демократии над реакционными силами была способна создать более гармоничный общественный строй. Но для того, чтобы эта более высокая стадия была достигнута, социал-демократы должны были сформировать союз с государством. Штайн неоднократно подчеркивал необходимость не революционных изменений, а длительного и медленного процесса реформ. При этом истинная социальная реформа могла произойти только тогда, когда высшие сословия признают её своей самой высокой целью. Один из его важнейших выводов гласит: «С этого времени точно не будет ни чистой демократии, не чистого социализма; и таким образом центр политической жизни и деятельности перемещается и будет перемещен с конституционного вопроса на административный вопрос» [10, p. 422]. Выдвигая государство на главную роль в разрешении социального вопроса, Штайн пояснял, что этот вопрос окажется в центре внимания правительства, станет постоянным предметом его деятельности. Правительство, которое постоянно включается в работу тогда, когда люди неспособны помочь себе сами, функционирует в качестве целой системы социального правительства. Для достижения этой цели правительство должно активно действовать по меньшей мере в трех областях. Во-первых, оно должно обеспечивать социальную свободу. Второе направление его деятельности – борьба с бедностью. Третье – обеспечение социального развития общественных классов. Штайн полагал, что создание равных возможностей для представителей всех общественных классов было главным условием для преодоления напряженности в отношениях между классами, которая своими корнями уходит в природу современного государства [11, p. 401-402, p. 443-44].
Увлечение Гегелем, его понятиями и методологией поначалу позволяли Штайну проникнуть в суть социальных и политических явлений, но мере развития научной мысли сугубо академический язык произведений Штайна, основательно пропитанный гегельянством, стал восприниматься широкой научной общественностью Германии как архаический и идеалистический. Примером может служить высказывание Людвига Гумпловича: «Никогда не было более любопытного соединения идеализма и реализма, как у Штайна. В то время как в формах своей мысли он все еще полностью представляет идеалистическую философию, определенно представляющую диалектический метод Гегеля, в его содержании прорывается до сих пор неизвестный, непримиримый реализм. Штайн – реалист, который пребывает в широкой драпировке идеализма» [12, p. 151].
Идейных лидеров формирующейся германской социал-демократии теперь больше занимали конкретные проблемы осуществления соответствующих социальных реформ, нежели глубокие исторические обобщения и абстрактные теории «духовного отца» германской социальной политики. Духовное родство с Гегелем, переезд в Австрию нисколько не способствовали широкой популярности его научных трудов на родине Штайна. Их значение вновь открылось его соотечественникам спустя годы. Как бы то ни было, именно Штайн стал первым писать о том, что «социальный дух» должен проникать не только в деятельность всего правительства, создающего рабочим все условия для развития их умственных и физических способностей, но и в государство в целом.
Современник К. Маркса Лоренц Штайн предложил компромиссное решение социального и рабочего вопросов, которое он назвал «социальной политикой». Такая политика должна была связать социальную сферу с политической (через «социальную администрацию»), сохраняя автономию всех элементов социальной жизни. Иначе говоря, вторгаясь в экономику, семейную жизнь, государство должно применять иные, нежели государство диктатуры пролетариата, методы. В работе «Настоящее и будущее науки о государстве и праве Германии» Штайн утверждает, что государство «должно стремиться к экономическому и общественному прогрессу всех своих членов, так как развитие одного есть условие и следствие развития другого; в этом смысле мы говорим об общественном или социальном государстве» [13, p. 215].
Социальное видение современного государства он противопоставлял научным взглядам своего былого наставника – Роберта фон Моля – одного из основателей концепции Rechsstaat (правового государства). Штайн, порицая его за одномерную, упрощенную трактовку, подчеркивал: «Это худшая концепция государства принадлежит настоящему времени и её представляет, как известно,
Роберт Моль». По мнению Штайна, развитие идеи правового государства характеризовалось повышенным вниманием к конституции страны, дробило целостную науку государствоведения на отдельные сегменты и вытесняло из поля научного дискурса специфически немецкий идеал Wohlfahrtsstaat – государства всеобщего благосостояния, государства всеобщего благоденствия. Полемизируя с фон Молем, Штайн писал: «Фундаментальное понятие идеи eudaemonian государства просто. Государство существует так, чтобы оно могло, через власть, которая сосредоточена в нем, обеспечивать благосостояние всех граждан в духовном и материальном отношениях» [14, p. 12, 24]. Спустя некоторое время идея Wohlfahrtsstaat была подхвачена и получила свое развитие в трудах другого, гораздо более успешного в политической сфере и более популярног о в социал-демократической среде, нежели Штайн, немецкого мыслителя – Адольфа Вагнера, соединившего её с идеей правового государства.
Список литературы Социальное государство: к истории концепта
- Медведев И.П. Правовая культура Византийской империи. СПб.: Алетейя, 2001.
- EDN: OTBKVJ
- Рансимен Стивен. Восточная схизма: византийская теократия / авт. предисл. Л.Л. Тайван; РАН. Ин-т востоковедения. М.: Наука: Вост. лит., 1998.
- The Oxford Handbook of Byzantine Studies (Oxford Handbooks) / Edit. by Elizabeth Jeffreys with John Haldon and Robin Cormack. Oxford: Oxford University Press, 2008 [Электронный ресурс]. URL: http:/en.bookfi.net/book/1383686 (дата обращения: 13.12.2019).
- Constantelos D.J. Byzantine Philanthropy and Social Welfare. New Brunswick, N.J: Rutgers university press, 1986. [Электронный ресурс]. URL: https:/ru.b-ok.xyz/book/3416904/72cb2c (accessed date: 13.12.2019).
- Janin R. Constantinople Byzantine. Paris: Institut francais d'etudes Byzantines, 1950. [Электронный ресурс]. URL: http:/bookre.org/reader?file=1320440 (дата обращения: 13.12.2019).