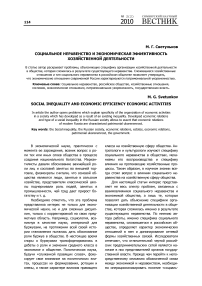Социальное неравенство и экономическая эффективность хозяйственной деятельности
Автор: Светуньков Максим Геннадьевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Экономика и менеджмент
Статья в выпуске: 2 (2), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье автор раскрывает проблемы, объясняющие специфику организации хозяйственной деятельности в обществе, которая сложилась в результате существующего неравенства. Сложившиеся хозяйственные отношения и тип социального неравенства в российском обществе позволяет утверждать, что экономические отношения современной России характеризуются патримониальной укорененностью
Социальное неравенство, российское общество, хозяйственные отношения, сословия, экономические отношения, патримониальная укорененность, государственная власть
Короткий адрес: https://sciup.org/14113515
IDR: 14113515
Текст научной статьи Социальное неравенство и экономическая эффективность хозяйственной деятельности
В экономической науке, практически с момента ее зарождения, возник вопрос о роли тех или иных слоев общества в процессе создания национального богатства. Меркантилисты давали обоснование важнейшей роли лиц и сословий занятых во внешней торговле, физиократы считали, что основой общества являются люди, занятые в сельском хозяйстве, представители классической школы подчеркивали роль людей, занятых в промышленности, чей труд дает прирост богатству и т. д.
Необходимо отметить, что эта проблема представляла интерес не только для экономической науки, но и для смежных дисциплин, только с корректировкой на свою предметную область. Например, социология, возникнув в качестве науки, интересной для буржуазии, на протяжении всей своей истории становления пыталась дать обоснование роли буржуа в обществе. В настоящее время споры о буржуазии трансформировались в дебаты о роли и значении среднего класса в экономике и обществе. Политическая наука, будучи «служанкой правящих слоев», фокусирует свое внимание на политических элитах, процессах их формирования, ротации и смены, а также характере влияния правящего класса на хозяйственную сферу общества. Антропологи и культурологи изучают специфику социального неравенства в обществах, механизмы его воспроизводства и специфику влияния на протекающие хозяйственные процессы. Таким образом, в научном знании всегда стоял вопрос о влиянии социального неравенства на хозяйственную сферу общества.
Для настоящей статьи интерес представляет не весь спектр проблем, связанных с взаимовлиянием социального неравенства и экономикой общества, а лишь те, которые позволят дать объяснение специфики организации хозяйственной деятельности в обществе, которая сложилась именно в результате существующего неравенства. По мнению автора работы, именно специфика социального неравенства, сложившегося в российском обществе, определяет характер экономических отношений в нем и доминирование сетевой формы хозяйственных связей. Исследователи отмечают, что отличительной чертой российских предпринимательских сетей является наличие в них представителей органов государственной власти. Прежде чем перейти к непосредственному описанию обозначенной связи между экономикой и неравенством, необходимо операционализировать понятие «социаль- ное неравенство» с учетом существующих наработок в современной науке.
Социальное неравенство проявляется прежде всего через различный уровень доступа индивидов к материальным благам. В различных обществах этот уровень доступа определяется разными факторами. Традиционно в социологической теории считается, что социальное неравенство определяется тремя факторами: доходом, престижем и властью. Эти факторы являются достаточно широкими и могут быть интерпретированы еще шире на эмпирическом уровне изучения социального неравенства. Основным недостатком такого подхода является то, что эти факторы не раскрывают специфики социального неравенства. Доход, престиж и власть – это то, что получают индивиды в результате протекания каких-то процессов и функционирования каких-то механизмов. Изучение индивидов на предмет сравнения имеющихся у них объемов этих факторов позволяет зафиксировать их социальные позиции относительно друг друга. А интерес для науки представляют как раз те общественные процессы и механизмы, которые дают дифференциацию объемов этих факторов.
Доход, престиж и власть могут позволить исследователю проранжировать социальные позиции индивидов относительно друг друга, т. е. в некоторой степени структурировать социальное неравенство. Но оценить открытость социальных позиций для вертикальной социальной мобильности индивидов, или определить детерминанты неравенства в данном обществе, или вскрыть механизмы распределения материальных благ в обществе – просто невозможно. Существует множество других факторов, определяющих социальное неравенство, менее признанных и пытающихся учесть специфику того или иного общества, но данный подход изначально бесполезен в силу своих ограниченных разрешительных способностей.
Социальное неравенство проявляется, как уже было отмечено выше, в различном доступе индивидов к материальным благам. Чем обусловлена большая или меньшая доступность благ для индивидов?
Во-первых, отношениями господства, которые существуют в любых общества вне зависимости от исторического периода или территориального нахождения. Упорядоче- ние в рангах отношений господства между индивидами дает некое представление о социальной структуре общества в рамках социальной стратификации.
Во-вторых, разница в доступе к материальным благам может определяться востребованностью профессии на рынке труда, принадлежностью к той или иной религиозной конфессии или этносу и т. д. Эти различия не предполагают ранговой упорядоченности, они «полезны» друг другу с позиций выживания сообщества. Изучение социального неравенства с этой точки зрения позволяет говорить о социальной дифференциации общества.
Таким образом, социальная стратификация и социальная дифференциация есть два вида социальной структуры общества, отражающей сложившееся неравенство. Первая отражает отношения господства, вторая – отношения полезности для выживания всего сообщества. Возникает вопрос: что обусловило возникновение неравенства (и в аспекте господства и в аспекте полезности)? В социологической и экономической теориях существует несколько объяснений возникновения социального неравенства:
-
1. Неравенство есть результат войны. Победители обладают большим объемом власти, нежели побежденные. Это обеспечивает различный уровень доступа индивидов к материальным благам.
-
2. Неравенство есть результат функционирования института частной собственности. Частная собственность дает своим владельцам дополнительный ресурс, который конвертируется в материальные блага. Люди, не обладающие частной собственностью, лишены такого ресурса, следовательно, получают меньший объем благ.
-
3. Неравенство есть результат обладания различными экономическими факторами: природой, капиталом и трудом. Каждый капитал дает различный «прирост» и по-разному конвертируется в материальные блага.
-
4. Неравенство есть результат разделения труда. Некоторые профессии в большей степени востребованы обществом, но требуют предварительной подготовки, а значит, чтобы люди стремились занимать эти позиции, они должны сопровождаться несколько большим доступом к материальным благам. Отсюда происходит формирование различно-
- го доступа к благам в зависимости от профессии.
-
5. Неравенство – результат природных различий людей. Люди от природы обладают определенными физическими и физиологическими различиями, которые они могут конвертировать в доступ к определенным материальным благам. Различия в природных особенностях людей дают разный доступ к благам.
-
6. Неравенство – результат функционирования социальных норм общества. В любом обществе существуют нормы общества, которые направлены на поддержание существующего порядка. Эти нормы подкрепляются положительными и отрицательными санкциями. Люди, соблюдающие нормы, получают положительные санкции в виде доступа к определенным материальным благам; люди, нарушающие социальные нормы, – отрицательные санкции в виде лишения доступа к некоторым материальным благам.
По какой из перечисленных схем формировалось социальное неравенство современной России? Данный вопрос не является принципиальным и выходит за рамки исследовательского интереса данной работы. Можно предположить, что на разных этапах развития российского общества формирование неравенства шло по той или иной схеме, а конечный тип этих отношений стал результатом всех шести (а может быть и более) способов формирования.
В чем специфика сложившегося социального неравенства в России?
Социальное неравенство современной России, как и других стран, является в некотором смысле традиционным, то есть оно возникает на базе уже сложившихся отношений. Это связано с тем, что любая живая система стремится к самосохранению и самовос-производству (самопорождению). Поэтому в любом типе неравенства современности присутствуют черты прошлого. В отношении России эта черта ярко выражена на протяжении всей истории существования государства и сохранилась до сих пор.
Россия – государство, объединяющее множество обществ со специфической культурой, традиционными связями и отношениями, поэтому говорить о едином пространстве социального неравенства было бы некорректно. Каждый этнос обладает своим набо- ром факторов, определяющих как отношения полезности, так и отношения господства, т. е. уникальным социальным неравенством. Интеграция различных этносов в единый социум предполагает наличие механизмов интеграции, которые бы стерли этнические границы и консолидировали индивидов по некоторому универсальному принципу. В качестве такого интегрирующего общероссийского механизма выступает служение государству: индивиды разрушают традиционные этнические связи ради служения новому надэтническому образованию – государству. Социокультурной особенностью России является именно тот факт, что на протяжении всей ее истории присоединение новых земель сопровождалось «вливанием» представителей новых этносов на государственную службу. Кроме того, представитель любого этноса мог сделать карьеру на службе государства Российского и достичь высших административных должностей. В этнических обществах подобная вертикальная мобильность осложнялась многочисленными традиционными связями, являющимися своеобразными барьерами.
Но не только карьера на государственной службе являлась стимулом для представителей этносов. Служба государству автоматически ставила индивида на высшие позиции в иерархии неравенства. И даже элиты этнических обществ занимают более низкое положение относительно государственного служащего. Закрепить этот стимул необходимо было в виде государственных привилегий. Так формировалось сословное неравенство в многонациональной России.
Этот механизм интеграции индивидов в единую целостную социальную общность упорядочивает часть российского общества в сословном неравенстве. Часть представителей этносов частично или полностью разрывают традиционные связи и отношения, заменяя их сословными. Представители этносов, не находящиеся на государственной службе, осуществляют свою деятельность в рамках традиционных связей и отношений, т. е. за пределами сословного неравенства.
Таким образом, в современном российском обществе можно зафиксировать два типа сложившихся структур социального неравенства: 1) сословный тип неравенства, основанный на сложении государству; 2) несо- словный1. Служба государству не может быть одинаковой во всех сферах, поэтому она дифференцируется на сословия. Как отмечает российский исследователь С. Г. Кордон-ский, «сословная структура общества предполагает неравенство граждан перед законом, традиционное или введенное внешним образом. Неравенство в первую очередь заключается в том, что сословия имеют различающиеся права и обязанности перед государством и несут разные государственные повинности» [2, с. 26-27]. В современном российском обществе Конституцией установлены равные права и обязанности всех граждан государства2. Тем не менее, среди представителей органов государственной власти широко распространена практика игнорирования нормативных правил. Причем это несоблюдение носит осознанный и целенаправленный характер. Формально-юридическое равенство всех перед законом стирается практикой правоприменения. Для определенных категорий населения нормы права либо вообще перестают работать, либо работает некоторый их набор, либо санкции за их нарушение усиливаются или ослабляются. Речь идет не о различных аспектах отклоняющегося поведения или аномии всего общества, а именно о способе организации общества. По мнению автора статьи, в России происходит локализация права, т. е. право существенно различается в зависимости от ситуации, территории и участников. Характер его становится локальным.
Таким образом, сословное неравенство интегрирует множество традиционных обществ с их уникальными системами нера- венств и культур, но разрушает цельность правового пространства. В результате рыночные институты, основанные на праве частной собственности, начинают работать неэффективно. Отсутствие унификации и всеобщности права на территории России чрезмерно усложняет взаимодействие между предпринимателями разных регионов. Кроме того, разные сословия и разные группы сословий локализуют право в собственных интересах. Это приводит к тому, что даже внутри региональных рынков отсутствует единое правовое пространство. Подобная ситуация позволила В. Э. Шляпентоху охарактеризовать российское общество как феодальное [5]. Им были выделены такие признаки феодализма, которые широко распространены в настоящее время в Российской Федерации: 1) слабость центральной власти в вопросах поддержания законности и порядка; 2) всеобщее неуважение к закону; 3) постоянные конфликты главы государства и руководителей субъектов федерации с законом и либеральными институтами общества; 4) склонность главы государства и руководителей субъектов федерации приумножать свое собственное состояние за счет стирания границы между личной собственностью и собственностью государства; 5) ненадежная природа отношений собственности и использование физического принуждения для ее перераспределения; 6) важная роль неформальных, личных отношений в обществе; 7) высокая степень распространенности частных охранных структур, которые привлекаются для решения вопросов перераспределения собственности. К сожалению, в своей работе В. Э. Шляпентох акцентирует внимание в большей степени на политических процессах, нежели экономических, поэтому полезность описанной им модели феодального общества для экономистов невысока.
Более интересной в контексте данной статьи являются работы академика РАН Ю. Пивоварова [4]. По его мнению, Россия принадлежит к патримониальному типу государств, в которых не произошло разделение власти и собственности. Именно поэтому все хозяйственные процессы связаны с ней и протекают с ее согласия и с ее участием. Многие российские исследователи пытаются изучать в качестве единого целого феномен «власти собственности» [1, 3], но, по мнению автора работы, данное направление исследований является бесперспективным, так как отражает в первую очередь тип укорененности хозяйственных отношений, а не специфический социальный институт.
Ю. Пивоваров отмечает вторую характерную черту российского общества, которая накладывает отпечаток на хозяйственную деятельность. На протяжении всей истории становления и развития России власть стремилась контролировать все хозяйственные и политические отношения в стране, что вызывало недовольство у населения и региональных правителей, которые требовали некоторых свобод и самостоятельности. Обширные территориальные пространства позволяли не бороться, а уходить недовольным от контроля власти в глубь территорий. Если западные общества в силу ограниченных территорий вынуждены были бороться с государственным вмешательством, и результатом этой борьбы стала политическая система сдержек и противовесов, то в России подобной борьбы не было, было уклонение и избегание контроля власти. Это проявляется и в современной хозяйственной деятельности. Бизнес либо уходит из интересных государству сфер, либо избегает легализации деятельности.
Таким образом, сложившиеся хозяйственные отношения и тип социального неравенства в российском обществе позволяют утверждать автору статьи, что экономические отношения современной России характеризуются патримониальной укорененностью. Рассмотрим подробней специфику хозяйственных отношений и определим те группы населения, для которых они наиболее экономически эффективны.
Укорененность экономики во власти объясняет не только широкое включение в хозяйственные процессы представителей органов государственной власти, но и феномен локальности права. Неоднозначность правового пространства порождает массовое оппортунистическое поведение хозяйствующих субъектов, а также приводит к возрастанию объема трансакционных издержек в предпринимательской деятельности. Рынок становится более динамичным и неоднозначным. Степень риска и неопределенности предпринимательских решений возрастает, так же как и возрастают затраты на трансакционные издержки. Экономическая эффективность предпринимательской деятельности снижается. Предприниматели стремятся стабилизировать свою деятельность за счет создания сетевых сообществ или интегрированных структур.
В сетевые предпринимательские сообщества привлекаются представители органов государственной власти (сословий), что позволяет в некоторой степени повысить степень однозначности правового пространства. Предпринимательские сети начинают складываться в соответствии с видами и иерархиями сословий. Причем каждая сеть осуществляет свое взаимодействие в относительно однозначном локальном праве. В результате рынки и отрасли паритетно делятся между предпринимательскими сетями, а конкурентная борьба между ними не протекает в силу отсутствия единого правового пространства. Каждая сеть осуществляет свою деятельность в рамках определенного сегмента, где право становится относительно однозначным. Эта относительная однозначность правового пространства сохраняется до тех пор, пока в нем не пересекутся интересы предпринимателей, включенных в сетевые сообщества разных сословий (или одного сословия разного уровня). В случае возникновения таких ситуаций в ход, как правило, идут неценовые методы конкурентной борьбы на основе административных ресурсов власти.
Интегрированные структуры могут содержать широкий штат специалистов, способных пресекать оппортунистическое поведение со стороны субъектов внешней среды, или же выстраивают сетевые отношения с представителями органов государственной власти (представителями сословий), что опять-таки снижает спектр рыночных возможностей конкурентной борьбы в отрасли с другими хозяйствующими субъектами. В результате сохраняется видимость множества участников рынка, а по сути происходит монополизация сегментов, рынков и отраслей.
В подобной организации хозяйственной деятельности экономическая эффективность зависит не только от степени близости к органам государственной власти, но и от занимаемой позиции в ее иерархии.
В заключение необходимо отметить следующий момент. Патримониальная укорененность хозяйственной деятельности в качестве основного субъекта предпринимательства рассматривает, как это ни парадоксально, государственного чиновника. Именно он инициирует инновации в России, регулирует уровень предпринимательской активности населения, определяет характер и направление инвестиционной политики.
-
1. Бережной И. В., Вольчик В. В. Исследование экономической эволюции института власти-собственности: моногр. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2008. 239 с.
-
2. Кордонский С. Г. Сословная структура постсоветской России. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2008. 216 с.
-
3. Нуреев Р. М., Рунов А. Б. Россия: неизбежна ли деприватизация? (Феномен власти-
собственности в исторической перспективе) // Вопр. экономики. 2002. № 6. С. 10-31.
-
4. Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез: Избр. работы. М.: Рос. политическая энцикл. (РОССПЭН), 2004. 320 с.
-
5. Шляпентох В. Э. Современная Россия как феодальное общество. Новый взгляд на постсоветскую эру / пер. с англ. Ю. Гольдберга. М.: СТОЛИЦА-ПРИНТ, 2008. 328 с.
Список литературы Социальное неравенство и экономическая эффективность хозяйственной деятельности
- Бережной И. В., Вольчик В. В. Исследование экономической эволюции института власти-собственности: моногр. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2008. 239 с.
- Кордонский С. Г. Сословная структура постсоветской России. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2008. 216 с.
- Нуреев Р. М., Рунов А. Б. Россия: неизбежна ли деприватизация? (Феномен власти-собственности в исторической перспективе)//Вопр. экономики. 2002. № 6. С. 10-31.
- Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез: Избр. работы. М.: Рос. политическая энцикл. (РОССПЭН), 2004. 320 с.
- Шляпентох В. Э. Современная Россия как феодальное общество. Новый взгляд на постсоветскую эру/пер. с англ. Ю. Гольдберга. М.: СТОЛИЦА-ПРИНТ, 2008. 328 с.