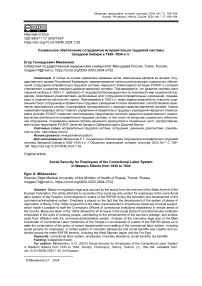Социальное обеспечение сотрудников исправительно-трудовой системы Западной Сибири в 1930-1934-х гг
Автор: Михеенков Егор Геннадьевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе нормативно-правовых актов, извлеченных автором из фондов Государственного архива Российской Федерации, предпринимается попытка реконструкции социального обеспечения сотрудников исправительно-трудовой системы Народного Комиссариата юстиции РСФСР в условиях становления и развития командно-административной системы. Подчеркивается, что развитие системы мест лишения свободы в 1930-х гг. требовало от государства беспрецедентных по значимости мер социальной поддержки, позволявших укомплектовать необходимый штат сотрудников исправительных учреждений, создаваемых в отдаленных местностях страны. Принимаемые в 1930-х гг. меры давали возможность повысить социальный статус сотрудников исправительно-трудовых учреждений в глазах обывателей, способствовали укреплению престижности службы, подчеркивали принадлежность к командно-административной системе. Анализ нормативно-правовых актов Главного управления исправительно-трудовых учреждений Народного Комиссариата юстиции РСФСР позволяет констатировать продолжение политики закрытого ведомственного нормотворчества деятельности исправительно-трудовой системы, в том числе по вопросам социального обеспечения сотрудников. Создавалась единая система денежного довольствия и социальных льгот, распространяемая на всю территорию РСФСР, включая Западно-Сибирский край и Дальний Восток.
Исправительно-трудовая система, сотрудники, денежное довольствие, социальные льготы, налоговые льготы
Короткий адрес: https://sciup.org/149145567
IDR: 149145567 | УДК: 94(571.1)“1930/1934” | DOI: 10.24158/fik.2024.7.26
Текст научной статьи Социальное обеспечение сотрудников исправительно-трудовой системы Западной Сибири в 1930-1934-х гг
Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Томск, Россия, ,
Siberian State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Tomsk, Russia, ,
Представленная тема исследования представляет особый интерес в контексте реформирования уголовно-исполнительной системы современной России, тем более что текущая кадровая ситуация в исправительных учреждениях схожа с положением 1930-х гг. Поэтому найденные в тот период решения по укреплению социально-правового статуса сотрудников во многом созвучны с сегодняшним днем. Накопленный исторический опыт в данной области возможно использовать в настоящее время для укрепления кадровой ситуации в уголовно-исполнительной системе.
Анализ современной отечественной историографии выглядит двойственно. С одной стороны, имеется большое количество историко-правовых исследований, раскрывающих различные вопросы развития исправительно-трудовой системы Российского государства первой половины XX столетия (М.Г. Деткова (2009), А.И. Зубкова (Зубков и др., 1998), С.И. Кузьмина (1991), Ю.А. Реента (Реент, Жигалев, 2018), Е.М. Гилярова1, С.М. Оганесяна2, А.С. Смыкалина3). В них собран, обобщен и систематизирован значительный фактологический материал по истории уголовно-исполнительной системы России; показано развитие форм исправительных учреждений на различных хронологических срезах; продемонстрирована практика применения советской карательной политики в виде лишения свободы в 1930-х гг.; выявлена структура системы ГУЛАГа от низового звена до центрального управления; раскрыто содержание процесса исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы.
С другой стороны, исследований пенитенциарной системы субъектов РФ, в частности Западной Сибири, не так уж много (А.В. Быкова (2011), С.Г. Марченко (2009), В.Н. Уйманова (2011, 2012), А.С. Кузьминой4). В них на основе архивных материалов проводится анализ становления и развития исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) в Сибири; изучаются условия отбывания наказания как в учреждениях общего типа, так и в исправительно-трудовых лагерях; осуществляется попытка реконструкции условий отбывания наказаний на территории Западной Сибири; показываются роль и место исправительно-трудовой системы в репрессивной политике Советского государства.
Вместе с тем вопросы персонала исправительно-трудовой системы, его материального положения, предоставляемых государством социальных льгот и компенсаций отходили на второй план. Все это позволяет констатировать недостаточную изученность социального обеспечения сотрудников исправительно-трудовых учреждений в Сибири, что требует проведения дальнейших исследований.
Данная статья является частью научной работы по изучению истории уголовно-исполнительной системы Российского государства, проводимой Центральным экспертным советом по истории уголовно-исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний.
В середине декабря 1930 г. исправительно-трудовая система Советского государства (за исключением учреждений ОГПУ) передавалась из подчинения НКВД в ведение Наркомюста РСФСР, на который возлагались функции руководства. По состоянию на 1 мая 1930 г. в системе ГУМЗ НКВД РСФСР функционировало 279 мест заключения, в которых содержался 171 251 осужденный (Реент, Жигалев, 2018: 76–77).
В рассматриваемый период одной из задач, стоявших перед руководством исправительнотрудовой системы, становится улучшение материального положения сотрудников. На заседании коллегии Наркомюста РСФСР в мае 1931 г. было принято решение об увеличении денежного довольствия до уровня сотрудников милиции с 1 июля 1931 г.5 Отметим, что увеличение денежного довольствия милицейского аппарата было связано с передачей милиции в ведение ОГПУ, а, следовательно, на личный состав милиции распространялись оклады и льготы рядового и комсостава РККА. На ОГПУ возлагалась работа по комплектованию и контролю за принимаемыми кадрами. Лишь в 1933 г. кадровая работа вновь была возвращена в соответствующие отделы Западно-Сибирского краевого управления милиции (Ларьков и др., 2002: 307–308).
Однако единовременно увеличить оклады денежного довольствия сотрудников было крайне сложно, так как сметы на содержание исправительно-трудовой системы утверждались заранее. Выход был найден в установлении дополнительных выплат, например за выслугу лет, по примеру действующих в милиции, размер варьировался от 10 % при 3-летней выслуге до 50 % при 12 годах службы. В стаж из расчета один месяц за два засчитывалось обучение в образовательных заведениях исправительно-трудовой системы также по аналогии с практикой в мили-ции1. Остальные дополнительные составляющие денежного довольствия (в частности, доплата за службу в отдаленных местностях, к которым относилась большая часть Западно-Сибирского края) выплачивались без их учета2.
От выслуги лет отныне зависел и размер предоставляемого отпуска. Его минимальный размер составлял 15 суток. Рядовой и младший начсостав мог претендовать на отпуск в 20 суток при выслуге лет до 3 лет; от 3 до 6 лет – 25, более 6 лет – 30 суток; средний начсостав – 25, 30 и 35; высший – 35, 40 и 45 суток соответственно3.
Меры по защите материнства и детства вписывались в общий контекст по стране в целом. К ним следует отнести предоставление отпусков беременным женщинам по беременности и родам; ограничения на ночные работы и командировки для них начиная с шестого месяца беременности; предоставление перерывов в работе для кормления грудью матерям.
В целях сохранения кадрового потенциала исправительно-трудовых учреждений сотрудникам предоставлялся значительный объем льгот, ранее доступных военнослужащим Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и содержащихся в Кодексе о льготах для военнослужащих и военнообязанных РККА и их семей от 24 апреля 1930 г.4 Однако их применение для персонала ИТУ было затруднено в связи с отсутствием описания в документе специфики службы в исправительнотрудовых учреждениях. Она была несколько иной, чем в РККА. Поэтому потребовался длительный процесс ведомственного нормотворчества, направленный на адаптацию норм Кодекса о льготах для сотрудников исправительно-трудовой системы. Выделим наиболее значимые из них.
Льготы в области сельского хозяйства распространялись на работников ИТУ с сентября 1931 г. Наиболее существенными из них являлись следующие:
-
– предоставление ссуд для уплаты взносов в колхозы из фондов кооперирования бедноты;
-
– первоочередное выделение ссуд единоличным хозяйствам;
-
– первоочередное получение земель в пользование вне районов сплошной коллективизации;
-
– пониженный размер платы с семей, в состав которых входил сотрудник ИТУ, за пользование прокатными, зерноочистительными и случными пунктами;
-
– отпуск для единоличных хозяйств в первую очередь и по пониженной стоимости (вплоть до бесплатности) леса и лесоматериалов, а также лесных сенокосов, сбора валежника и др.5
С декабря 1931 г. на сотрудников распространялись льготы по линии Наркомфина, Народного Комиссариата коммунального хозяйства и Наркомпроса. Сотрудникам предоставлялись льготы по 17 видам налогов и сборов, действующих на тот момент6. Циркуляр Народного Комиссариата коммунального хозяйства от 2 декабря 1931 г. предписывал распространить в соответствии со ст. 19 Устава о службе жилищные льготы для военнослужащих на сотрудников ИТУ и работников милиции. К ним относились следующие:
-
– право на получение жилплощади для сотрудников и членов их семей из общего жилого фонда наравне с рабочими, начальствующий состав получал жилплощадь из особого жилищного фонда, бронируемого для этой цели местными советами;
-
– сохранение в течение первых трех месяцев службы принадлежащей ранее им жилплощади по месту жительства, по возвращении со службы за сотрудниками сохранялось право вновь занять данную жилплощадь;
-
– внеочередное право на получение жилплощади (в течение шести месяцев со дня увольнения);
-
– при выселении из домов в административном порядке (идущих под снос) предоставление равной по жилплощади помещения для проживания, при этом выселение было невозможно в осенне-зимний период;
-
– бесплатное предоставление транспорта для перевозки вещей при переезде;
-
– сохранение жилплощади на период обучения;
-
– оплата коммунальных услуг (наравне с рабочими по минимальному тарифу);
-
– право на дополнительную комнату или жилую площадь для старшего начсостава и преподавателей учебных заведений1.
Существенные льготы для получения образования предоставлялись Наркомпросом. Своим циркуляром от 5 декабря 1931 г. предписывалось всем органам народного образования РСФСР реализовывать следующие меры:
-
– помещение детей умерших сотрудников на бесплатные места в детские дома, колонии и интернаты на одинаковых условиях с рабочими;
-
– прием детей сотрудников в учебные заведения (трудовые школы, техникумы, профессионально-технические школы, высшие учебные заведения) и обеспечение учебниками и пособиями наравне с детьми рабочих;
-
– освобождение от платы за обучение несовершеннолетних детей сотрудников, а также совершеннолетних, если заработная плата последних не превышает 100 р. в месяц;
-
– гарантии приема сотрудников для прохождения обучения (наравне с рабочими) в вузы, школы, на курсы для взрослых, рабочие факультеты, данная льгота продолжала действовать в течение года после увольнения со службы2.
Тем самым государство предоставляло льготные условия на получение образования.
Помощь государство оказывало сотрудникам, временно оказавшимся негодными к дальнейшему прохождению службы (например, по ранению). Им предоставлялся дополнительный оплачиваемый отпуск для излечения на срок от одного до четырех месяцев с последующим переосвидетельствованием врачебной комиссией на определение степени годности несения службы. В том случае, если сотрудник оперативно-строевого состава врачебной комиссией повторно признавался негодным к несению службы, он мог быть переведен на административнохозяйственные должности в ИТУ либо уволен со службы. При этом особо подчеркивалась необходимость сохранения опытных сотрудников ИТУ, в том числе тех, кому несколько лет оставалось до назначения пенсии3. Как правило, таких работников переводили на административнохозяйственные должности, обеспечивая возможность дослужить по достижения 20-летнего стажа. Подобная практика давала сотрудникам дополнительную уверенность в завтрашнем дне, повышая социальный престиж несения службы.
Для сотрудников ИТУ устанавливались следующие виды пенсий: персональная (за выдающийся вклад в развитие системы исправительно-трудовых учреждений), по инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери кормильца. Во всех случаях она назначалась начальником Главного управления исправительно-трудовых учреждений (ГУИТУ)4.
Таким образом, период 1930–1934 гг. в истории пенитенциарной системы страны являлся беспрецедентным по количеству предоставления льгот и компенсаций сотрудникам. Причин этому было несколько.
Во-первых, государство старалось укрепить командно-административную систему, деятельность которой немыслима без работы правоохранительных органов, в том числе исправительных учреждений. В связи с этим создание единой системы социальных льгот для сотрудников являлось вполне уместным. Отметим, что в рассматриваемый период расширение льгот и компенсаций затронуло рядовой и командный состав РККА, а также начальствующий состав ОГПУ.
Анализ нормативно-правовых актов ГУИТУ позволяет констатировать, что деятельность исправительно-трудовой системы в указанный промежуток времени носила закрытый характер и регулировалась ведомственными циркулярами, в том числе по вопросам социального обеспечения сотрудников. Данная негативная тенденция сохранялась и в дальнейшем, вплоть до начала 1960-х гг.
Во-вторых, создание новых исправительно-трудовых учреждений требовало привлечения большего количества сотрудников, чем ранее. Без соответствующих льгот рассчитывать на устойчивый кадровый состав в труднодоступных районах Сибири было по крайней мере легкомысленно. Тем более что события коллективизации в значительной мере требовали формирования новых ИТУ. По подсчетам В.Н. Уйманова, на 1 июля 1930 г. в исправительно-трудовых лагерях Томского округа ОГПУ находилось 5 010 заключенных и 1 780 кулаков-переселенцев (2011: 127). В 1931 г. их количество возросло до 21 149 чел., достигнув астрономической численности на 1 января 1938 г. в 78 838 заключенных. В 1930–1931 гг. в Западной Сибири было расселено 363 238 спецпоселенцев, или 82 457 семей, 284 146 чел. (78,22 %) из которых были направлены в северные районы Западно-Сибирского края (Уйманов, 2012: 31).
В-третьих, руководство ГУИТУ было заинтересовано в создании устойчивого кадрового потенциала исправительно-трудовой системы. В связи с этим предоставление льгот и компенсаций сотрудникам ИТУ повышало в глазах обывателя престиж службы.
Однако до конца справиться с наполняемостью кадров так и не удалось. На момент передачи исправительно-трудовой системы из подчинения Наркомюста РСФСР в НКВД общее количество сотрудников составляло по штату 25 884 человека, тогда как укомплектованность кадров по РСФСР в целом равнялась 22 459 сотрудникам (86,7 %). По Западно-Сибирскому краю при штатной численности 2 865 мест было укомплектовано 2 153 должности (75,1 %)1. Для сравнения отметим, что в 1924–1925 гг. ситуация выглядела более критичной. Согласно конспективной сводке о положении исправительно-трудового дела в Сибирском крае, некомплект сотрудников равнялся в среднем 50 % от штатной численности. При этом средняя продолжительность службы менее одного года в новосибирских исправительно-трудовых домах № 1 и 2, Томском и Мариинском домах заключения составляла до 59 %, что свидетельствовало о высокой текучести кадров (Быков, 2011: 32–34). В период 1930-х гг. эта негативная тенденция была преодолена в том числе благодаря государственным мерам социальной поддержки сотрудников.
Наконец отметим, что ряд льгот, предоставляемых работникам системы, просуществовали вплоть до середины 2000-х гг., что подчеркивало преемственность социального обеспечения данной категории сотрудников правоохранительных органов страны.
Список литературы Социальное обеспечение сотрудников исправительно-трудовой системы Западной Сибири в 1930-1934-х гг
- Быков А.В. Становление и развитие пенитенциарной системы в Западной Сибири в 1920-е гг. : монография. Омск, 2011. 180 с.
- Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 2009. 477 с.
- Зубков А.И., Калинин Ю.И., Сысоев В.Д. Пенитенциарные учреждения в составе Министерства юстиции России. История и современность. М., 1998. 172 с.
- Кузьмин С.И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР (1917-1953 гг.) : монография. М., 1991. 132 с.
- Ларьков Н.С., Чернова И.В., Войтович А.В. 200 лет на страже порядка: очерки истории органов внутренних дел Томской губернии, округа, области в XIX-XX вв. Томск, 2002. 519 с.
- Марченко С.Г. Страницы истории уголовно-исполнительной системы Кемеровской области. Кемерово, 2009. 266 с.
- Реент Ю.А., Жигалев А.В. Исправительно-трудовая система Советской России в довоенный период (1921-1940 гг.) : монография. М., 2018. 190 с.
- Уйманов В.Н. Ликвидация и реабилитация: Политические репрессии в Западной Сибири в системе большевистской власти (конец 1919 - 1941 г.) : монография. Томск, 2012. 564 с.
- Уйманов В.Н. Пенитенциарная система Западной Сибири (1920-1941 гг.) : монография. Томск, 2011. 330 с.