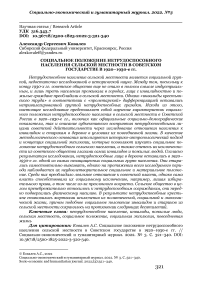Социальное положение нетрудоспособного населения сельской местности в Советском государстве в 1920-1930-е гг
Автор: Ковалев Александр Сергеевич
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (25), 2022 года.
Бесплатный доступ
Нетрудоспособное население сельской местности является социальной группой, недостаточно исследованной в исторической науке. Между тем, поскольку к концу 1930-х гг. советское общество еще не стало в полном смысле индустриальным, и лишь треть населения проживала в городах, лица с инвалидностью и пожилые граждане преобладали в сельской местности. Однако «инвалиды крестьянского труда» в соответствии с «пролетарской» дифференциацией оставались непривилегированной группой нетрудоспособных граждан. Исходя из этого, настоящее исследование представляет собой изучение характеристик социального положения нетрудоспособного населения в сельской местности в Советской России в 1920-1930-е гг., включая как официальные социально-демографические показатели, так и описание субъективного восприятия нетрудоспособными лицами советской действительности через исследование отношения населения к инвалидам и старикам в деревне в условиях их повседневной жизни. В качестве методологического основания используются историко-антропологический подход и концепция социальной эксклюзии, которые позволяют изучить социальное положение нетрудоспособного сельского населения, а также степень их исключенности из советского общества глазами самих инвалидов и пожилых людей. Согласно результатам исследования, нетрудоспособные лица в деревне оставались в 1920- 1930-е гг. одной из самых незащищенных социальных групп населения. Они старались самостоятельно выживать, однако на протяжении всего исследуемого периода наблюдается их неудовлетворительное социальное и материальное положение. Среди них преобладало лояльное отношение к советской власти, однако сама власть способствовала их социальному исключению, например, лишая избирательного права, в том числе из-за преклонного возраста. Сельское общество в целом пренебрежительно относилось к нетрудоспособным согражданам, они нередко подвергались физическому насилию. В результате нетрудоспособные крестьяне становились жертвами исключения из политической, социальной и экономической жизни, причем подобное социальное положение инвалидов и стариков из сельской местности сохранялось на протяжении следующих десятилетий.
Нетрудоспособное население, инвалиды, пожилые люди, сельская местность, социальное положение, социальная эксклюзия, повседневная жизнь
Короткий адрес: https://sciup.org/140296059
IDR: 140296059 | УДК: 316.343.7 | DOI: 10.36718/2500-1825-2022-3-321-340
Текст научной статьи Социальное положение нетрудоспособного населения сельской местности в Советском государстве в 1920-1930-е гг
Введение . Социальная политика в отношении нетрудоспособного населения в любой исторический период остается актуальной проблемой. Существует ряд публикаций, которые рассматривают вопросы становления и развития социальной помощи и поддержки в дореволюционной России и советском обществе [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Однако все они практически охватывают только вопросы, связанные с инвалидностью городского населения. Это вполне объяснимо, поскольку в период имперской России в деревнях преобладали общинные традиции помощи убогим, а советская власть ориентировалась в первую очередь на рабо- 322
чий класс, концентрировавшийся в городах. В связи с этим неизученными остаются не только вопросы государственного и общественного содействия инвалидам и пожилым людям в сельской местности, но и в первую очередь сами группы нетрудоспособного населения. По сути, только в одной из работ автора настоящего исследования, опубликованной по результатам научной конференции, затрагиваются ключевые направления социальной помощи и поддержки инвалидам и пожилым людям, проживавшим в сельской местности в 1920–1930-х гг. в Сибири: пенсионное обеспечение, временная материальная поддержка, протезирование, политика занятости, обслуживание в инвалидных домах [10].
Цель исследования . Дать характеристику и оценку социального положения нетрудоспособного населения в сельской местности в Советской России в 1920–1930-х гг.
Задачи исследования : изучить социально-демографическую характеристику нетрудоспособного населения; отношение инвалидов и пожилых людей к советской власти; особенности повседневной жизни нетрудоспособных крестьян; специфику социального исключения пожилых граждан и лиц с инвалидностью из общества.
Методологической основой исследования выступает, прежде всего, историко-антропологический подход, без которого в современной исторической науке невозможно анализировать какие-либо социальные группы, поскольку он позволяет изучить человека прошлого во всех проявлениях его жизнедеятельности в конкретное время и конкретном месте во взаимосвязи с элементами социальной системы. Это позволяет акцентировать внимание на изучении вопросов здоровья, материального благополучия нетрудоспособного населения, на отношении к нему со стороны общества и государства. Историко-антропологический подход тем самым дает возможность оценить социальный статус и статусные отношения инвалидов и пожилых людей в советском обществе в рамках существовавшей в первые годы советской власти системы социальной стратификации. Подобный анализ также включает в себя изучение состава социальной группы, персональных характеристик, стереотипов мышления, повседневных занятий. Ряд важных методологических принципов изучения нетрудоспособности содержится в исследованиях Т. Харевен [11], которая предлагает изучать нетрудоспособность ХХ в. через анализ процессов, связанных с разрушением традиционных моделей призрения, когда следствием урбанизации даже в сельской местности становится «разрыв поколений», в результате которого нетрудоспособные крестьяне, не сумевшие вписаться в новую социальную структуру общества, оказались выброшенными на произвол судьбы.
Дополнить историко-антропологический подход призвана концепция социальной эксклюзии, подробно рассмотренная автором настоящей публикации в монографии «Между исключением и интеграцией:
нетрудоспособное население Сибири в фокусе социальной политики Советского государства 1920–1930-х гг.» [12]. Она ориентирует исследователя на выявление ограничений социальных условий, препятствующих нормальной жизнедеятельности человека, в результате проявления которых нетрудоспособное лицо исключается из общества. Этот подход как нельзя лучше может быть использован для изучения социально незащищенных категорий населения, проблем реализации их социальных прав, сокращения доходов, ограниченности доступа к общественным благам. Результатом подобного исключения является минимальное участие в жизни общества, а его последствиями – межпоколенное воспроизводство эксклюзии, передача статуса «по наследству», когда за нетрудоспособными лицами закрепляется ярлык безнадежности и обреченности. В качестве методологии настоящего исследования концепция социальной эксклюзии помогает проанализировать экономические, политические и социальные предпосылки исключения инвалидов и пожилых людей из общественной и государственной жизни, последствия социальной эксклюзии нетрудоспособного населения, проживавшего в сельской местности, «срезы» государственной политики, в которых наиболее полно проявилось отношение общества и государства к инвалидам и старикам из деревни [12, с. 25–30].
Исходя из особого «требования» антропологического подхода к истории, ориентированного на источники, отражающие непосредственные взаимоотношения человека с государством и обществом, документальной базой изучения социального положения нетрудоспособного населения сельской местности в 1920–1930-х гг. стали опубликованные письма инвалидов, а также отчеты представителей органов государственной безопасности.
Результаты исследования и их обсуждение . Инвалидов, проживавших в сельской местности, советская власть называла «инвалидами крестьянского труда». Именно так при организации социальной помощи нетрудоспособному населению в 1920–1930-х гг. пытались «отделить» деревенских инвалидов от их собратьев по несчастью, которые проживали в городской среде. Последних пролетарское государство выделяло в качестве «привилегированной» группы, инвалидам же в деревнях оставалось довольствоваться мерами социальной заботы, которые проводились органами власти по остаточному принципу.
Согласно данным переписи населения 1926 г., основную массу инвалидов составляли «беспризорные» инвалиды-женщины, которые проживали в сельской местности. Характер инвалидности не позволял им обходиться без посторонней помощи и делал их потенциально нуждавшимися в помещении в учреждение социального обеспечения [13, с. 158].
Что касается людей пожилого возраста (их численность представлена в таблице), то в 1926 г. лиц пожилого возраста (от 60 лет и старше) в демографическом отношении было немного – 6,9 %, причем среди них также преобладали женщины. Например, доля пожилого населения в Сибирском крае составляла 6,49 %, из них 6,39 % мужчин и 6,6 % женщин. Как видно из таблицы, для этого периода были характерны диспропорции между численностью пожилых людей в городских и сельских поселениях, а также между мужчинами и женщинами: 8,8 % мужчин и 11,25 % женщин пожилого возраста, проживавших в городах, против 91,2 и 88,7 5% сельских жителей соответственно.
Численность людей пожилого возраста в Сибирском крае (1926 г.), чел. [14, c. 105–109]
|
Возраст |
Мужчин |
В городах |
В сельской местности |
Женщин |
В городах |
В сельской местности |
Всего |
|
60-64 |
98 476 |
9 301 |
89 175 |
107 296 |
11 778 |
95 518 |
205 772 |
|
65-69 |
76 712 |
7 316 |
69 396 |
78 184 |
9 683 |
68 501 |
154 896 |
|
70-74 |
44 356 |
3 621 |
40 735 |
51 154 |
5 493 |
45 661 |
95 510 |
|
75-79 |
25 145 |
2 046 |
23 099 |
25 531 |
3 158 |
22 373 |
50 676 |
|
80-84 |
14 844 |
937 |
13 907 |
16 884 |
1 454 |
15 430 |
31 728 |
|
85-89 |
7 263 |
472 |
6 791 |
6 339 |
743 |
5 596 |
13 602 |
|
90-94 |
3 554 |
194 |
3 360 |
3 810 |
316 |
3 494 |
7 364 |
|
95-99 |
1 695 |
93 |
1 602 |
1 389 |
133 |
1 256 |
3 084 |
|
От 100 |
1 003 |
47 |
956 |
985 |
70 |
915 |
1 988 |
|
Всего |
273 048 |
24 027 |
249 021 |
291 572 |
32 828 |
258 744 |
564 620 |
По данным за 1927–1931 гг., численность лиц старше 60 лет в соотношении к общей численности населения в городе уменьшилась с 4,6 до 4,47 % среди мужчин, но увеличилась с 6,82 до 6,83 % среди женщин. В сельской местности доля мужчин уменьшилась с 6,46 до 6,19 %, женщин с 7,31 до 7,1 %. В целом численность пожилых мужчин снизилась за 4 года с 6,13 до 5,85 %, женщин – с 7,22 до 7,05 % [15, с. 360].
Согласно переписи 1937 г., к концу 1930-х гг. пожилых людей в деревне было по-прежнему больше, чем в городе, соответственно 7,1 и 5,5 %. Причем наблюдалась еще более выраженная и резкая диспропорция, чем в середине 20-х гг., диспропорция полов в старших возрастах: женщин 55–59 лет – 59 %, 60–65 лет – 60 %, 75–79 лет – 62 %, 85–89 лет – 66,2 %, 95–99 лет – 67 % [13, с. 160, 374, 376].
Говоря о том, какое место инвалиды-крестьяне занимали в социальной структуре советского общества, прежде стоит остановиться на том, что в начале 1920-х гг. в Советской России сложился дифференцированный подход к организации социального обеспечения нетрудоспособных людей. Приоритет отдавался инвалидам труда, затем – инвалидам гражданской и империалистической войн, потом – «беспризорным инвалидам старости» и далее остальным «прочим категориям» инвалидов. Несмотря на то что среди деревенских инвалидов могли быть и «трудовики» с рабочим стажем, и те, кто получил увечья на фронте, они были отнесены к последней непривилегированной группе получателей социальной помощи [12, с. 54–55].
О том, что представляла собой жизнь инвалида в деревне в 1920-х гг., лучше всего расскажет письмо сельского корреспондента Ф. Романовского из Смоленской губернии, написанное по поводу 10-летия советской власти и пришедшее в «Крестьянскую газету» 18 ноября 1927 г.:
«...Желательно мне описать свою жизнь... как я инвалид, живу и чем занимаюсь. Занятие мое – сельское хозяйство, земли я... имею 5 дес.: 3 дес. пашни и 2 дес. покоса. Имею одну старую лошадь 23 лет и одну корову и 3 овцы, подсвинка. Но, товарищи, не могу указать, насколько процентов мое сельское хозяйство повышело – не повышело. В настоящее время я имею 4 поля, занимаюсь клеверным сеянием, чрез кредитное т[оварищест]во купил себе железной плуг, который и сейчас имею, и купил нонешницу-телочку, от хорошей коровы и племенного быка. А до военного времени я жил так: имел дойную корову –1 шт., имел 3 поля, клевера не сеял ничего, покупал каждый год на 25 руб. сена, имел деревянный плуг старой системы и деревянную борону из елового сучья, а сейчас имею борону с железным зубьем. Товарищи! Я чувствую себя свободным и сознаю, что Советская власть никогда нас не покинет, потому что она любит рабочих, крестьян, которые стремятся к жизни. А посему, товарищи, прошу... войдите в мое положение, что я сам человек плохого здоровья, инвалид гражданской войны, неправ[ильное] дей-ствование правой ноги, семью имею 5 душ, и все живем на средства жены: она пашет, сеет и жнет, а б[ы]вает, что иногда и меня бьет, а именно за что? Я не могу ни пахать и ни бороновать, и я занял место жены: [в] летнее время топлю печь, дою корову, кормлю семью, а жена пашет, боронует. Потом я служу общественным председателем комитета взаимопомощи, приходится много по обществу работа[ть], а она со мной ссорится, что, мол, не ходи, откажись, ты человек больной. Но, товарищи, я чувствую, что такое Советская власть, и какие она имеет стремления к жизни рабочим и крестьянам потому, что я ее защитником был. А где пришлось терпеть много холоду и голоду, а также бывши на фронте и страхости, и мы чувствуем, что рабоче-крестьянская власть освободила нас и мы чувствуем себя, что теперь живем не под гнетом капитала, а каждый чувствует себя, что я есть свободный гражданин и никому не надо идти к помещику... А Советская власть крестьян от этого освободила... она помогла нам в науке, учит всех подряд больших и маленьких. Устроены с/х кредитные т-ва для беднейшего населения о поднятии ихнего хозяйства. Беднейшее население пользуется скидкой [с налога]. И Советская власть всю землю дала в рабочие руки крестьянам, которая вся находится теперь в наших руках...» [16, с. 90, 113].
Анализируя это письмо, следует остановиться на том, что его автор был довольно лояльным к советской власти, он называет себя ее «защитником», пишет о том, что советская власть «любит рабочих и кре- 326
стьян», сравнивает положение абстрактного крестьянина в дореволюционные и послереволюционные годы в пользу последних, скрытно отмечая, что и его собственное хозяйство «повышело». Инвалид отмечает ряд определенных достижений советской власти в области науки и образования, экономическую поддержку слабо защищенных крестьян, противопоставляет атмосферу «страхости» и «гнета капитала» свободе в самом широком смысле этого слова.
Говоря о том, как изменилась жизнь автора письма после того, как он стал инвалидом, крайне интересным представляется то обстоятельство, что в семье инвалида, который, в общем-то, как инвалид гражданской войны принадлежал к «привилегированной» группе нетрудоспособного населения, происходит «гендерный переход» в социальном смысле этого понятия – обмен традиционными семейными ролями, попытка адаптироваться к исполнению своей новой роли. Для Ф. Романовского произошла «смена пола» – раньше он был активным, трудоспособным главой семьи, теперь же с явным сожалением пишет, что «занял место жены: [в] летнее время топлю печь, дою корову, кормлю семью, а жена пашет, боронует». Он жалуется на то, что нередко супруга проявляет беспричинную агрессию и применяет к нему физическое насилие, вероятно, возмущаясь тем, что она позволяет себе то, что, с его точки зрения, непозволительно для женщины из крестьянской семьи, хоть когда-то было его «прерогативой» как главы семьи.
Подобный вынужденный социальный переход означал для инвалида изменение всей организации жизни, и вполне ожидаемой ответной реакцией мужчины-инвалида становится его вовлеченность в общественную деятельность, – он берет на себя работу председателя комитета взаимопомощи, которая не приносит ему дохода (из-за чего у инвалида опять-таки регулярно возникают конфликты с женой), но, только погружаясь в эту работу, он может снова чувствовать себя полноценным человеком.
С точки зрения психологии Ф. Романовским, нашедшим себя в общественной деятельности, был сделан совершенно правильный выбор. Инвалид стал ощущать себя человеком, который постоянно берет и ничего не может дать сам, он все время испытывал чувство, что женщина в его семье способна делать все, чем раньше занимался он сам, а значит, он как мужчина и глава семьи этой семье уже не нужен. В то же время, работая председателем комитета взаимопомощи, он мог проявить себя сполна. Думается, что этому также способствовала работа сельским корреспондентом. Если обратиться к «Толковому словарю русского языка» того времени, то мы найдем такое определение «селькора»: «передовой деятель социалистической деревни, активно участвующий, как корреспондент, в советской печати» [17]. Оно вполне соответствует тому типу деятеля, каким стал (или пытался стать) инвалид Романовский.
Отношение к советской власти со стороны инвалидов во многом определялось той ролью, какую они играли в ее становлении. Скажем, инвалид-красноармеец С.И. Кулаев обращался с жалобой на незаконное изъятие земли у его семьи, пока он находился на протезировании в Москве весной 1922 г, к М.И. Калинину. В письме он неоднократно говорит о своих заслугах в борьбе за установление советской власти:
«Я – инвалид Кр[асной| арм[ии]... муж сестры – также красноармеец... Несмотря на такой состав семьи, согласно декретам ВЦИК, нужно было бы ожидать со стороны местной власти самой разносторонней помощи, а фактически наблюдается самое противоположное явление. Посему и обращаюсь к Вам, т[оварищ] Калинин... зная, что те лозунги, за которые мы шли в бои, не принесут разорения и несчастья нашим семьям…» [18, с. 311–312].
Как видно из текста письма, инвалид убежден, что власть, за которую он сражался, и в ходе борьбы за которую стал инвалидом, не допустит беззакония. Но, конечно, далеко не все крестьяне были довольны новой властью и политикой, которую она проводила в деревне, в том числе в отношении нетрудоспособного населения. Вот что говорится в письме, поступившем в редакцию «Крестьянской газеты» из Брянской деревни в 1925 г. от комсомольца С.А. Карнеева:
«Прошу[,] помогите нашей темной деревне, нашу деревню… замучили братья[-]коммунисты, которые сидят в советах. Они дерут шкуры крестьянские больней, чем при царизме... Расскажу про свое хозяйство… Хозяйство состоит из девяти душ, Андрей, хоз[яин] 67 лет, Анисья, хоз[яйка], 65 лет, сын Степан 37 лет, невестка Домна 37 лет (больная) ...сын Семен 22 году инвалид, совсем к труду неспособен, невестка, 23 г., Марфа, дочь Евдокия, 14 лет, ребенок-инвалид ½ года, дед Акинф, 78 лет. На все перечисленное семейство имеется один работник, имеем скота 2 лошади, 2 коровы, 5 овец, 2 свиньи и 1 теленок 1 год, 12 дес. земли осталось недоимки 20 пудов... Разве может один работник семью кормить и так налог отработать?... Земля наша плохая, если не иметь ско-та[,] тогда нужно с сумой ходить по миру, так наша власть не хочет. Власть хочет, чтоб поднять сельское хозяйство, а не уничтожать, а местная власть уничтожает» [19, с. 114–115].
В контексте настоящего исследования в большей степени в этом письме интересно даже не то, как крестьяне воспринимают «народную» власть. Внимание привлекает даже не тема сельскохозяйственного налога и особенности его справедливого или несправедливого сбора (речь об этом отдельно пойдет ниже). Письмо во многом позволяет видеть уклад крестьянской семьи 1920-х гг., 2/ 3 которой составляли нетрудоспособные инвалиды и старики («инвалиды старости», как их тогда именовала советская власть).
Очевидно, что, вопреки бытующим стереотипам о традиционно здоровой и крепкой крестьянской семье, наличие в одной семье 6 нетрудо- 328
способных из 9 человек говорит об обратном. Можно предположить, что это была не единственная крестьянская семья, где по старой межпоколенческой традиции проживали сразу несколько семьей, а главой считался человек в возрасте – автор говорит о своем хозяйстве и о том, что содержит всех нетрудоспособных членов, но хозяевами называет 67-летнего отца и 65-летнюю мать. При этом нет смысла сомневаться в том, что только сам С.А. Карнеев является тем самым единственным работником на все хозяйство. Очевидно, родители уже трудиться не могут, как и 78-летний дед, при этом одна невестка присматривает за мужем-инвалидом, другая – «больная», а 14-летняя девочка-подросток, скорее всего, ухаживает за братом-инвалидом.
Автору письма приходится заниматься обработкой 12 десятин земли и ухаживать за всей домашней скотиной. При наличии стольких иждивенцев семья Карнеевых могла бы рассчитывать на льготы по сельхозналогу, тем более, что лицам с инвалидностью в 1925 г. он был предоставлен. Однако, по всему видно, что или он сам не обратился за помощью, или те самые местные власти ничего не сделали для того, чтобы семья, состоящая из инвалидов, вошла в число льготников.
Безусловно, инвалиды в деревне оставались одной из самых незащищенных социальных групп населения. Они нередко обращались с жалобами на то, что материальная помощь им не оказывается вовсе, а если и оказывается, то не соответствует их потребностям. Скажем, инвалид А.Р. Сенчук в марте 1929 г. писал «дорогому Михаилу Ивановичу Калинину»: «Я сам – красный инвалид, отдавший за Революцию свою ногу... Нехорошо, т[оварищ] Калинин, что вы, как голова С.С.С.Р., совсем позабыли своих Красных инвалидов. Пенсия, которую мы получаем (12– 16 руб[лей]), – совсем ничтожна, и мы совсем как нищие. Примите во внимание, а мне... пришлите пару червонцев, а я куплю детям на лето кое-какую одежу» [20, с. 74].
А иногда инвалиды и вовсе считали, что советская власть забыла о них и об их революционных заслугах. Например, спецсообщение УНКВД по Челябинской области (май 1936 г.) уведомляло руководство не иначе как о «о контрреволюционной деятельности среди бывших красных партизан», в частности, упоминало об инвалиде-партизане II группы Полушкине, который осмелился обратить внимание на свою скромную персону. Он писал: «Это подлость, что никто на тебя внимания не обращает. Я имею выдающиеся заслуги перед революцией, и все это сейчас забыли. Осталось только одно – сжечь документы» [21, с. 260].
Инвалиды часто жаловались на свое невзрачное социальное и материальное положение тем, кто их окружал. Врач Константин Ливанов в сентябре 1928 г. записал в дневнике фрагмент диалога с одним из своих пациентов с инвалидностью [22]:
«Нам, инвалидам, ничего ведь не дают. Дают только по фунту хлеба. Сухой-то хлеб жуешь, жуешь... Собирались мы на собрание и написали письмо в Москву – ихнему-то царю, Рыкову. Написали: давай хлеба! Чтобы не было таких порядков: одним есть, а другим не есть!»
Материальная неустроенность порой толкала инвалидов на самые трагические поступки. Так, в одном из обзоров ОГПУ политического состояния СССР по причине нищенского существования среди инвалидов в деревнях нередко отмечаются «случаи самоубийства» [23, с. 49].
Инвалиды-крестьяне старались выживать, как могли, например, промышляли спекуляцией. Так, в Ставрополе инвалиды покупали в местном колхозе подсолнечное масло по 6 руб. за литр, а затем втридорога продавали его на рынке [24, с. 210]. Другим способом как-то свести концы с концами было то, что инвалиды нанимались в качестве батраков к более успешным односельчанам, и положение их становилось более чем уязвимым. Примером может быть ситуация, описанная в докладе «О кабальных отношениях», представленном в Президиум Верховного суда РСФСР Гражданской кассационной коллегией суда 15 января 1929 г.: «Кабала обычно возрастает в трудовых отношениях каждый раз, когда нанявшимся является социально более слабый элемент, как-то: инвалиды... В этих случаях эксплуатация рабочей силы носит еще более беззастенчивый характер» [25, с. 505].
Впрочем, и сами инвалиды порой использовали труд сезонных рабочих. В основном это были вчерашние середняки, которые объясняли, что были вынуждены эксплуатировать рабочую силу именно из-за своей инвалидности. Например, крестьянин Я.В. Колпащиков из Черепановско-го района Новосибирского округа «ежегодно нанимал сезонного работника, поскольку после ранения в Первой мировой войне был инвалидом» [26, с. 76]. Правда, за это можно было запросто подвергнуться санкциям со стороны органов власти. К примеру, в Сталинградской губернии в 1927 г. сельский избирком лишил избирательного права 70-летнего крестьянина-инвалида за то, что он содержал батрака [27, с. 519].
Лишение избирательного права было еще одним привычным для советской власти способом исключения инвалидов из общества. Механизм лишения избирательных прав был определен Конституциями 1918 и 1924 гг. и конкретизирован Инструкцией ВЦИК от 4 ноября 1926 г., которая регламентировала порядок применения статей Конституции к различным категориям граждан. Согласно этому документу, избирательных прав лишались все «неблагонадежные» в политическом отношении лица, в том числе жившие на «нетрудовой доход». Однако инвалиды труда и войны, занимающиеся мелкой торговлей, избирательных прав не могли быть лишены [27, с. 473–468]. Подобная лазейка в законе породила множество случае незаконного получения статуса «инвалида». Cкажем, в с. Давыдовка Воронежской губернии один из владельцев чайной, узнав о том, что его собираются лишить избирательных прав, срочно прошел медкомиссию, получил статус инвалида, а вместе с ним па- тент на торговлю от органов социального обеспечения и восстановился в правах [27, c. 530].
Но порой и статус инвалида не спасал от поражения в правах. Инвалид Д.М. Копитанов, крестьянин из Акмолинской губернии, жаловался во ВЦИК на то, что был лишен права только потому, что в 1917 г. был связан с временными органами управления в деревне [18, с. 567–568]:
«За что лишают прав избирательного голоса?.. Хочу сообщить жалкое мое положение о лишении меня голоса. Я бедняк. Имею у себя свой очаг, жену и 5 детей, 1 лошадь, 2 коровы, 2 подростка и имею сироту беспризорную. Живу у себя дома, нигде не был на службе: ни царской ни нес, ни гражданской, потому что я инвалид труда[,] и в продолжение моей жизни, 35 лет, я только был председателем собрания в Февральское восстание, и через это меня лишили голоса в 1927 году. А в 1926 году я был Зам[естителем] Пред[седателя] Сельсовета, но и что же тут я преступного сделал против Сов[етской]власти, не могу понять? Нигде я не был, нигде не участвовал и даже не знаю, что представляет собой ружье...».
При этом инвалид, в целом не выступая против советской власти, не постеснялся выступить с критикой партийного руководства, обвиняя последнее в принадлежности к непролетарским слоям деревни и моральном разложении:
«Хотя и совестно мне открывать [рот] против вышестоящих органов власти, но не умолчу, терпения не хватает... Наша [партийная] ячейка состоит совершенно из одной фамилии Дивисенко. Кто же [он] такой?.. Совершенный кулак. Что же он имеет? Имеет дом, хороший на весь поселок, имеет 5 пар быков, 2 лошади, 4 коровы, 20 овец, машину-веялку... плуг, железные бороны, мельницу ветряную, баню, что и домов у нас в деревне таких нет. Имеет 3 сынов партийных. 2 сына... тоже имеют большие хозяйства и жен своих прогнали на произвол, которых народ кормит... Сами живут с проститутками и занимаются варением и питием самогона...».
Пожилых людей могли лишить избирательного права просто по «возрастному» принципу. Так, сводка № 2 материалов информотдела ОГПУ сообщает о ходе перевыборов советов в декабре 1925 г. в Поволжье: «В Бирюге-Осунском районе при составлении списков на лишенных прав голосования было лишено голоса все население мужского и женского пола, имевшее 56 лет от роду и больше» [27, с. 392]. Впрочем, в этом случае все закончилось хорошо – старики обжаловали постановление в райисполкоме, права им вернули. Однако случаи незаконного лишения прав продолжались.
В марте 1927 г. в Тульской губернии Курвинский и Богородицкий райизбиркомы автоматически лишили избирательных прав женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. В Маслянинском районе Новосибирского округа одна сельская избиркомиссия лишила избирательных прав душевнобольного, а заодно с ним и его жену только потому, что она была «в возрасте» [27, с. 525].
Были и другие «причины» лишения избирательного права нетрудоспособных лиц. В Чувашии наблюдался «слишком формальный подход некоторых избиркомов к вопросу о лишении права голоса. Так, лишены права голоса старики, слепые, больные и т.п., один лишен права голоса за то, что он 40 лет тому назад занимался торговлей, хотя ныне является батраком» [28, с. 302].
В ст. Уманской Кубанского округа был лишен избирательных прав старик-активист. Его обвинили в том, что он служил до революции в полиции. Только после длительного разбирательства выяснилось, что старик не только полицейским никогда не был, но и преследовался полицией за то, что его дочь состояла в партии большевиков, а в годы гражданской войны служила в Красной армии [27, с. 526].
Источником социальной эксклюзии для инвалидов нередко были и те, кто должен был их защищать, а именно представители органов социального обеспечения. Совершенно вопиющим, но не таким уж нетипичным был случай, произошедший в Шацком волисполкоме Рязанского округа в 1929 г. Здесь делопроизводителем по выдаче пособия инвалидам работал сын старшины сельсовета И.М. Дмитриев, который, если верить спецсводке Рязанского окротдела ОГПУ о состоянии низового советского аппарата, был «настроен антисоветски», что выражалось в его деятельности по отношению к советским инвалидам. Когда к нему приходили инвалиды за справками о причинах отказа пособия он объяснял отказы «под разными соусами в виде: “Вы завоевали свободу, а вас не хотят за это обеспечивать”. Кроме того, сотрудники ОГПУ выяснили, что «Дмитриев имеет связь с чуждым элементом и... пособия старается выдавать тем, которые имеют заработок от 60 до 70 руб., отказывая действительно нуждающимся инвалидам». По мнению чекистов, именно этим Дмитриев вызывал со стороны инвалидов «недовольство на власть и партию» [29, с. 48].
А вот еще одно средство социальной эксклюзии. В докладной записке УНКВД по Воронежской области сообщается о недочетах в работе суда и прокуратуры области. Так, в октябре 1938 г. «...инвалида-пенсионера, проживающего в доме поселкового совета ст. Россошь, Степанова с женой и двумя малолетними детьми по фиктивной справке председателя пос[елкового] совета Сахно о задолженности по квартплате в сумме 80 руб. решением суда выселила из квартиры, в результате Степанов живет в сарае» [21, с. 715].
Следующим видом социального исключения является эксклюзия от возможности саморазвития. В качестве примера вполне подойдет случай, который не связан с привычными «материально-бытовыми» проблемами инвалидов. В анонимной дневниковой записи можно прочитать:
«Произошел зверский случай. Я был знаком с одним парнем [из деревни] с недоразвитыми руками. Он хотел поступить в [вуз]... В результате его не приняли и будто бы ответили: «Нам в сов[етских] вузах инвалиды не нужны». Он выбросился из окна [этого вуза]... Сломал ногу, потерял глаз и, кажется, скончался. Добавлю, что он получал от государства] 21 р. в месяц и ежедн[евный] беспл[атный] обед» [30].
Не сильно отличалось и отношение в сельской местности к пожилым людям. О положении стариков-крестьян в начале 1930-х гг. в Сибири сообщает докладная записка инспектора Покровского райздравотдела в РК ВКП(б) об обследовании голодающих семейств в Покровском районе Западно-Сибирского края от 26 марта 1932 г.: ««Сидельников Яков имеет... стариков-родителей, коим до 70 лет, живущих в одной комнате, но питаются отдельно, так как старики добывают себе суррогаты за свои пожитки... Друг от друга на улице прячут свои суррогаты питания... Старики со слезами просят доктора: “Дайте смерти”» [31, с. 299].
Тщательно читая это письмо, можно отметить, во-первых, то обстоятельство, что престарелые родители живут отдельно от своего сына. С чем это связано - с отчуждением по семейным причинам, или с невозможностью сына обеспечивать своих родителей, - остается только гадать. Во-вторых, пожилые люди явно ведут нищенский образ жизни, продавая свои «пожитки» и приобретая на вырученные средства некие «суррогаты питания», которые прячут друг от друга на улице. Это чувство стыда пожилых людей вполне можно понять - к отсутствию поддержки со стороны семьи добавляется ощущение своей бесполезности и никчемности по итогам прожитой жизни, что, безусловно, оказывало серьезное психологическое давление на пожилую пару. Среди крестьян, доживших до преклонного возраста, преобладала «парадигма дожива-ния», в основе которой лежало представление о том, что основной смысл пожилого возраста - это незаслуженная боль и страдания. Подобный образ жизни можно назвать «эмоциональным шоком» для любого человека, приводящим к трагическому восприятию старости, которое лучше всего характеризуется последней, во многом суицидальной фразой с просьбой о смерти.
Руководство колхозов с пренебрежением относилось к своим пожилым членам, не в полной мере или вовсе не оплачивая выработанные ими трудодни. Так, 63-летний член сельхозартели «Волна революции» (Азово-Черноморский край) Н.Ф. Федорченко писал весной 1934 г. в редакцию местной газеты «Молот», что колхозное правление не оплатило честно выработанные им 140 трудодней: «за то, что я старик, в колхозе ко мне относятся как к лишнему» [32, с. 266].
11 января 1939 г. в «Крестьянскую газету» пришло письмо из Орловской области следующего содержания: «Степан Грецкий, инвалид 2-й группы Мировой войны, и в 1938 году декабря месяца меня исключили из колхоза. Но [мое] хозяйство имеет 220 трудодней. Прошу ре- дакцию «Крестьянской газеты» разъяснить и установить меня в колхоз» [33, с. 259].
Из этого краткого сообщения мы можем сделать ряд очень важных выводов. Во-первых, вполне очевидно, что инвалид II группы, проживавший в сельской местности, был обязан работать, иначе зачем бы еще он считал трудодни. Безусловно, можно предположить, что это был его сознательный выбор, и он продолжал трудиться, даже имея инвалидность, тем более, что такая возможность у инвалидов (правда, городских) официально существовала. Во-вторых, его исключили из колхоза, что для него, судя по всему, было крайне значимо. Исходя из того, что он опять же упоминает про трудодни, видимо, причиной исключения стала невыработка определенного норматива.
Известно, что с мая 1939 г. был установлен обязательный минимум трудодней для трудоспособных колхозников – от 60 до 100 трудодней, и не выработавшие минимума трудодней должны были исключаться из колхоза. Однако речь идет о 1938 г., когда таких жестких ограничений не было, и при этом, если верить С.И. Шубину, «в 1936 году средняя выработка на один колхозный двор равнялась 393 трудодням» [34, с. 33]. Почему же тогда 220 трудодней, выработанных инвалидом, оказалось недостаточно для того, чтобы он продолжал работать в колхозе, остается загадкой. Скорее всего, причину избирательного отношения к Грецкому нужно искать в том, что он был «инвалидом мировой войны», то есть империалистической, Первой мировой войны, и если в 1920-х гг. такие инвалиды были фактически приравнены к инвалидам гражданской войны, как жертвы царского режима, то в 1930-х гг. они уже не были столь «идеологически необходимы» советской власти.
Нетрудоспособные старики нередко становились жертвами физического насилия, в том числе со стороны представителей органов власти. Письма крестьян, зафиксированные отделом политконтроля ОГПУ за март–май 1924 г., сообщают, что в июле 1924 г. в одном из сельсоветов на юге страны «председатель обращается со стариками, как старый жандарм. Все правила здесь, как при старом режиме, мордобития и сейчас есть» [27, с. 217].
На Северном Кавказе в 1926 г. молодые люди, «ворвавшись однажды во двор 85-летнего старика... стащили его с постели, издевались над его женой, а вступившегося в защиту старика избили и выбросили на улицу» [23, с. 346]. В Каменском округе на Урале «шайка избила старика, церковного сторожа. Думая, что старик мертв, они закопали его в навоз, чтобы ночью вывезти за село» [23, с. 346]. В Сунженском казачьем округе «без всякой причины в собственном саду был избит старик-казак» [23, с. 346].
Приложение «Моменты политсостояния деревни» к обзору политического состояния СССР за май 1926 г. сообщало о случаях хулиганства даже со стороны членов ВКП и ВЛКСМ. Так, в Бийском округе (Сибирь) 334
молодой комсомолец, «будучи пьяным, утащил на кладбище старика-крестьянина, считавшегося у населения колдуном, и избил его вытащенным из могилы крестом» [23, с. 346]. В спецсправке секретнополитического отдела ОГПУ Уральской области «Об отрицательных моментах в политсостоянии села» за август 1932 г. сообщалось, что «бригадир колхозной бригады, кандидат в партию заставил 64-летнего колхозника запрячься в ярмо с коровой, чтобы доставить воз к молотилке на расстояние 2 км...». В этом случае бригадир из числа кандидатов в партию был исключен [35, с. 323]. Наконец, в докладе прокуратуры Удмуртской АССР в прокуратуру СССР «О нарушениях революционной законности» [36, с. 183] (11 марта 1937 г.) сообщается о том, что председатель одного из колхозов систематически избивал престарелых колхозников (по результатам рассмотрения жалоб против него было возбуждено уголовное дело).
Заключение . Итак, материальное и семейное положение деревенского инвалида в большей степени определяло возможности его социального обеспечения. Лишь наименее обеспеченные, не имевшие родственников и никакого хозяйства инвалиды и старики могли рассчитывать на помощь. Органы власти, самоустранившись от помощи инвалидам в сельской местности, стали источником социальной эксклюзии нетрудоспособных граждан в деревне. В результате «инвалид крестьянского труда» становился заложником политического бесправия, бедности, социальной незащищенности. Подобное отношение к нетрудоспособному населению деревни сохраняется на протяжении довольно длительного периода советской истории. Достаточно привести в пример ситуацию с разработкой пенсионного законодательства уже при Н.С. Хрущеве, когда в 1956 г. было введено всеобщее пенсионное обеспечение по старости и инвалидности, но про колхозников забыли, вспомнив только в 1964 г. Увы, но сельские инвалиды так и остались наряду со здоровыми крестьянами тем самым «неудобным классом», о котором писал Т. Шанин.
С. 117–124.
Список литературы Социальное положение нетрудоспособного населения сельской местности в Советском государстве в 1920-1930-е гг
- Букалова С.В. Устройство инвалидных домов в Российской империи в годы Первой мировой войны // Современные исследования социальных проблем. 2021. Т. 13. № 3. С. 50-66.
- Щербинин П.П. Особенности призрения военных инвалидов и членов их семей в России в XVIII - начале XX вв. // Вестник ВГУ. Серия: Гуманитарные науки. 2005. № 2. С. 222-233.
- Смирнов А. Русские инвалиды // Родина. 2020. № 11. С. 27-29.
- Муравьева М.Г. Калеки, инвалиды или люди с ограниченными возможностями? Обзор истории инвалидности // Журнал исследований социальной политики. 2012. Т. 10. № 2. С. 151-166.
- Хлынина Т.П. "Кто более матери истории ценен?": красноармейцы и инвалиды в системе социального обеспечения (1920-е гг. - начало 1930-х гг.) // Проблемы российской истории. 2010. № (10). С. 117-124.
- Ковалев А.С. Положение инвалидов войны в России. История вопроса, начиная с XVIII и по 20-е годы XX века // Военно-исторический журнал. 2019. № 11. С. 71-77.
- Ковалев А.С. Социальная помощь нетрудоспособному населению в антибольшевистской Сибири в 1918-1919 гг. // Манускрипт. 2018. № 11-2(97). С. 205-210.
- Ковалев А.С. Реализация государственной социальной политики в отношении инвалидов и пожилых людей в Сибири в 1920-1930-х гг. // СОТИС - социальные технологии, исследования. 2015. № 1(69). С. 81-88.
- Kovalev A.S. The Disabled and Elderly People in Prerevolutionary and Early Soviet Society: Formation of Disability Model in 1900-1938 // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. 2021. Vol. 14. No 8. P. 1239-1250.
- Ковалев А.С. Основные направления социальной помощи «инвалидам крестьянского труда» в Сибири в 20-30-х гг. ХХ в. // Гришаев-ские чтения (18-19 нояб. 2020 г.). Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2021. С. 270-279.
- Якимова Е.В., Харевен Т.К. Последний этап: Исторические аспекты зрелости и старости // Социальная геронтология: Современные исследования. Москва, 1994. С. 104-111.
- Ковалев А.С. Между исключением и интеграцией: нетрудоспособное население Сибири в фокусе социальной политики Советского государства 1920-1930-х гг. Красноярск, 2018. 352 с.
- Население России в XX в. Население России в XX вв.: в 3-х т. / под ред. В.Б. Жиромской. Москва: РОССПЭН, 2000. Т. 1. 463 с.
- Всесоюзная перепись населения 1926 г. Сибирский край. Отдел 1: Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность. Москва, 1928. 340 с.
- Социалистическое строительство СССР. Статистический ежегодник. Москва, 1934. 627 с.
- Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг. / отв. ред. А.К. Соколов. Москва: РОССПЭН, 1997. 328 с.
- Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. Москва: ОГИЗ, 1935-1940. Т. 4. С. 137.
- Письма во власть. 1917-1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям / сост. АЯ. Лившин, И.Б. Орлов. Москва: РОССПЭН, 1998. 664 с.
- Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / сост. С.С. Крюкова. Москва: РОССПЭН, 2001. 232 с.
- Письма во власть. 1928-1939: Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и советским вождям / сост. АЯ. Лив-шин, И.Б. Орлов, О.В. Хлевнюк. Москва: РОССПЭН, 2002. 528 с.
- Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. Документы и материалы: в 4-х т. / под ред. А. Береловича, С. Красильникова, Ю. Мошкова [и др.]. Москва: РОССПЭН, 2012. Т. 4. 1935-1939 гг. 983 с.
- Дневник Константина Ливанова. URL: https://prozhito.org/ note/331468.
- «Совершенно Секретно»: Лубянка Сталину о положении в стране (1922-1934 гг.): сборник документов: в 10 т. Москва, 2001. Т. 4. Ч. 1. 710 с.
- Осокина ЕА. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927-1941. Москва: РОССПЭН, 2008. 351 с.
- Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939. Документы и материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. Москва: РОССПЭН, 1999. T. 1. 880 с.
- Красильников СА., Саломатова М.С., Ушакова С.Н. Корни или щепки. Крестьянская семья на спецпоселении в Западной Сибири в 1930-х - начале 1950-х гг. Москва: РОССПЭН, 2010. 326 с.
- Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. Документы и материалы: в 4-х т. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. Москва: РОССПЭН, 2000. Т. 2. 1168 с.
- «Совершенно секретно»: Лубянка Сталину о положении в стране (1922-1934 гг.): сборник документов: в 10 т. Москва, 2003. Т. 5. 804 с.
- Рязанская деревня в 1929-1930 гг.: Хроника головокружения. Документы и материалы / ред.-сост. Л. Виола [и др.]. Москва: РОССПЭН, 1998. 749 с.
- Анонимный дневник. URL: https://prozhito.org/note/682988.
- Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939: Документы и материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. Москва: РОССПЭН, 2001. Т. 3. 1008 с.
- Бондарев ВА., Самсоненко ТА. Социальная помощь в колхозах 1930-х годов: на материалах юга России. Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. 304 с.
- Общество и власть: 1930-е годы. Повествование в документах / под ред. А.К. Соколова. Москва: РОССПЭН, 1998. 352 с.
- Шубин С.И. История трудодня (1930-1966) как меры труда и инструмента его стимулирования // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. № 6. С. 31-37.
- «Совершенно секретно»: Лубянка Сталину о положении в стране (1922-1934 гг.): сборник документов: в 10 т. Москва, 2017. Т. 10. Ч. 2. 657 с.
- Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939: Документы и материалы: в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинг. Москва: РОССПЭН, 2004. Т. 5. 648 с.