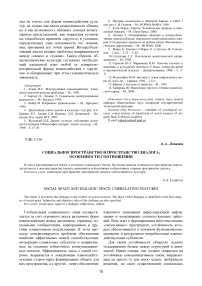Социальное пространство и пространство диалога: особенности соотношения
Автор: Леонова Алина Андреевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается диалог в контексте социального бытия. На основе анализа социального пространства определяется место в нем пространства диалога, выявляются субъективные и объективные стороны пространства диалога
Социальное пространство, пространство диалога, spaсe of a dialogue, субъективность, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/148179681
IDR: 148179681
Текст научной статьи Социальное пространство и пространство диалога: особенности соотношения
Глобализация современного мира осуществляется за счет огромного роста различных форм взаимодействия между регионами, странами, локальными сообществами, корпорациями и другими социальными подсистемами. В этом процессе конкретизируется проблема обеспечения наиболее эффективных связей, способствующих интеграции социальных субъектов и направленных на освоение избыточных коммуникационных потоков. Эффективность здесь, с одной стороны, выражается в локализации взаимодействующих сторон через формирование общего для них пространства, а с другой – через обеспечение взаимного понимания циркулирующей информации и координации соответствующих действий. Речь идет о формировании многочисленных «ситуативных» пространств, устойчивость которых обеспечивается в основном функциональноцелевыми и ресурсными потребностями взаимодействующих субъектов.
Для своей устойчивости общество должно поддерживать баланс между структурой и динамикой. Иначе говоря, оно должно опираться на устойчивые коммуникативные связи, выражающие не просто ту или иную задачу, требующую решения, но само существование социальных субъектов в контексте их сущностных связей и взаимодействий. Из соотношения структуры и динамики в коммуникационных процессах возникает проблема: каким образом в их пространстве совмещается устойчивое и изменчивое? В какой мере устойчивость коммуникаций воздействует на ее ситуативно-динамические формы проявления? В контексте этой проблемы вырисовывается и современный статус диалога. В чем он сегодня выражен: в форме устойчивых связей социальных субъектов, детерминированных структурой социума, или же в совокупности частных межличностных коммуникационных процессов?
В современной литературе понятие диалога связывается преимущественно с межличностным общением. Так, в словаре по социальной философии отмечается, что «диалог - философский термин, используемый в онтологических теориях коммуникации для обозначения особого уровня коммуникативного процесса, на котором происходит слияние личностей участников коммуникаций» [5, 121].
Здесь явно выделена ситуативность и субъективный характер диалога: как только стороны достигают согласия, диалог прекращается. Однако это противоречит возникшей тенденции роста масштабов диалога и появления его новых форм. Социальное партнерство в его разных вариантах, деловое общение, межкультурные коммуникации, праздники и фестивали, межэтнические контакты - все эти формы общения обязательно предполагают живое межличностное взаимодействие и, конечно, не сводятся только к решению узкоконкретных проблем или ситуаций. Эти тенденции указывают на социально-онтологическую природу диалога, которая в данном случае может быть первичной в бурно разрастающейся системе техногенно-коммуникативных процессов.
Это означает, что основанием проявления любых форм и направлений диалога является социальное, структурированное не только статусами и ролями социальных субъектов, но и культурными нормами, ценностными ориентациями, а также единством социального пространства и времени. Речевая деятельность в диалоге, которая является основой в межличностном общении, в социальных формах диалога дополняется культурно-символическими текстами, целевыми позициями, ценностями. Поэтому попытки понять природу диалога исходя из конкретноличностного общения являются абстрактными, поскольку не учитывают внеречевые проявления в социуме и истории.
Диалог является компонентой не только социума, но и других коммуникаций - массовых, технических, управленческих и др. Отсюда не- обходимость выявления его оснований как особой формы бытия общества. Так как диалог имеет сложную структуру, необходимо выявить тот исходный пункт, который создает условия для реализации диалога и позволяет развертывать все богатство его содержания. Таким исходным пунктом может стать соотношение социального пространства и пространства диалога, в котором выражаются объективные социальные функции.
Большинство современных исследователей основанием социального пространства считает деятельность и общение. Поскольку общество должно постоянно воспроизводиться с меняющими друг друга поколениями и при этом формировать и изменять свои структуры и отношения, то формами этого процесса выступают пространство и время. Социальное пространство выражает три основных уровня бытия общества: территориальное - размещение на территории города, области и т.д. основных компонентов инфраструктуры: жилого сектора, производства, дорог, мест отдыха и т.д.; производственное -собственное пространство труда, общественной деятельности, пространство связей и коммуникаций; пространство духовной культуры, в котором циркулируют смыслы, символы, сюжеты, выраженные в знаковой форме и т.д. Можно также выделить в этом пространстве свой центр и периферию. Центр выступает как концентрация (на определенной территории) власти, ресурсов, информации, капиталов, инноваций и т.д. Периферия как бы заказывает процессы, идущие с центра, усваивает их и тем самым повышает общий уровень функционирования бытия социума как проявления его развития. Однако во всех этих структурах основанием является воспроизводственная деятельность людей. Социальное пространство «представляет движение человеческого бытия в виде определенной координации людей, их действий и предметных условий, средств и результатов их же жизненного процесса, в формах их непосредственно совместимых взаимодействий» [5, 65].
Деятельность при всей универсальности все же оказывается для формирования социума ограниченной: она не порождает ценностносмысловых отношений, без которых нет целеполагания, глубинных социальных связей и в конечном счете нет самосознания эпохи и тех субъектов, которые ее переживают. В указанных трех слоях социального пространства именно верхний - культурный слой не исчерпывается деятельностью людей. Его важным компонентом является общение между субъектами. Очевидно в этой связи, что в социальном пространстве должны существовать другие формы, обеспечивающие устойчивость этого культурного уровня,
– формы, благодаря которым общество сохраняет и обеспечивает свою целостность и субъект-объектное соответствие. Так, общей основой порождения смысла является культура, в контексте которой общество регулируется набором своих ценностей и связанных с ними целей.
Известно, что понятие культуры имеет несколько сотен определений, раскрывающих многообразные функции и свойства этого сложнейшего феномена социальной жизни. В данном случае под культурой понимается способность программирования совместных связей людей – их деятельности, общения, регулирования, самоорганизации в контексте выдвинутых целей и задач. Культура – источник формирования смыслов, благодаря чему люди способны отделяться от непосредственных условий своего существования и порождать идеальные модели, программы, символические формы, через которые они способны воздействовать на реальность как субъекты. В этом отношении культура всегда «шире», чем совокупность пространства производства и общения, поскольку она выступает как метасистема (метапространство), позволяющая осмысливать и оценивать социально-воспроизводственные процессы и отношения.
Но именно поэтому культура имеет свое собственное основание, не сводимое к предметной деятельности и объективированным формам бытия. Основой культуры является человеческая субъективность, которая всегда отделяется и возвышается над объективным комплексом общественных отношений. Субъективность как бы пронизывает вещи и отношения, включая и саму человеческую деятельность, направляя ее логику к определенным целям. И.В. Ватин подчеркивает, что человеческая субъективность «не обладает прочной формой в том смысле, что у нее нет четкой пространственной локализации… В то же время благодаря ей человек имеет и неорганическое тело, совпадающее с предметным телом цивилизации… Благодаря своей непрочной форме человеческая субъективность как бы «растекается» в системе отношений… Она есть целый мир и в то же время ее как бы нет» [2, 70].
Таким образом, культура выступает наиболее адекватной формой социально-символического, текстового и ценностного «опредмечивания» человеческой субъективности. Но поскольку субъективность возвышается над реальностью, определяя ее, распределяя и направляя в соответствии с целями людей, то происходит и расширение пространства субъективности, выраженное в формах культуры. С этой точки зрения культура есть наиболее масштабный, исторически-объективированный социальный диалог. Как отмечает В.С. Библер, «культура всегда существует в одновременном «пространстве» многих культур, в культуре нет разновременности и “снятия”». Во-вторых, время культуры всегда настоящее, то «сегодня», в котором общаются и диалогизируют все прошлые и будущие культуры. Сейчас это реальное время бытия, со-бытия и общения культур – культура XX века. В-третьих, в этом общении каждая культура реализует себя как культура отдельная, самобытийная, закругленная и неисчерпаемая в своей неповторимости и вечности. Разговор в культуре всегда идет сегодня, но – всегда – через века. В-четвертых, все только что сказанное и обозначает смысл нашего исходного утверждения: общение культур и определение каждой культуры осуществляются как... общение личностей» [1, 189].
Из сказанного следует несколько выводов. Во-первых, культура как диалог представляет собой саморасширяющееся смысловое про -странство , в котором через настоящее происходит самоопределение культур. Во-вторых, это пространство встроено в социум и восстанавливает в нем приоритеты субъективного начала (субъектности), благодаря чему общество способно сохранять свою деятельность как основу производства его бытия. В-третьих, диалог оказывается важнейшей объективной функцией социума, благодаря которой осуществляется «опережающее» развитие субъектной сферы по отношению к произведенной и действующей предметной среде – сфере объектов.
Это значит, что пространство диалога не просто встроено в социальное пространство, но выделяется из него своим саморасширением, позволяющим специфически контролировать и регулировать все другие стороны (уровни) социального пространства. Отсюда следует, что развитие современного пространства коммуникаций, выстроенных на основе новых технологий, информационных потоков и создавших массовое общество, относится к техногенно-овеществленной сфере социального пространства, которое зависит от пространства диалога как порождающего смысл и сохраняющего онтологическую приоритетность субъектов.
Именно поэтому виртуальное пространство телекоммуникаций, которое, казалось бы, связывает весь мир (Интернет, телевидение), так же зависит от реального социально-смыслового пространства диалога, порождающего устойчивые социальные нормы, статусы и автономность субъектов. Как отмечает О.С. Кордобовский и С.Д. Политыко, «глобальные информационные сети обязаны своим чрезвычайно быстрым развитием не только стремлению потребителей получить доступ к новым и более обширным базам данных, но и возможности информационного обмена в диалоговом режиме, восполняющем дефицит общения в реальной повседневности» [3, 111]. Отсюда также следует, что традиционное межличностное понимание диалога как формы порождения новых смыслов является лишь небольшой частью социально-коммуникативного пространства, которое охватывает знаковые системы, культурно-символические комплексы, символические формы. Действительно, текстовые миры – содержание семиосферы – существуют в различных потоках исторического времени и в плане сохранения своего смысла оказываются принципиально различными.
Ю.М. Лотман отмечает: «Долгосрочность текстов образует внутри культуры иерархию, обычно отождествляемую с иерархией ценностей. Наиболее ценными могут считаться тексты, предельно долговечные с точки зрения и по меркам данной культуры… Этому может соответствовать иерархия материалов, на которых фиксируются тексты, и иерархия мест и способов их хранения. Долгосрочность кода определяется константностью его основных структурных моментов и внутренним динамизмом – способностью изменяться, сохраняя при этом память о предшествующих состояниях и, следовательно, самосознание единства» [4, 330].
Таким образом, социальное пространство диалога оказывается внутренне структурированным: оно содержит различные временные длительности, которые организованы в текстах и обращены к другим эпохам (субъектам, общностям, личности и т.д.). Эта структура соединяет также объективное и субъективное в самом пространстве диалога. С.Е. Ячин и М.Ю. Орлова отмечают, что «диалог разворачивается на нескольких уровнях: онтологическом, экзистенциальном, культурном и институциональном (социальном). Онтологический уровень … есть реестр Истины, которая «в исходнейшем смысле есть «разомкнутость присутствия». Второй уровень – экзистенциальный… определяется тем обстоятельством, что бытию принадлежит не только то сущее, о котором идет речь, но и сам человек – он есть «существо, бесконечно открытое Миру». Третий уровень – культурносимволический, – он, прежде всего, связан с поиском культурных средств выражения, общих для данного сообщества (для данной науки, для данного собрания, для Тебя и Меня). Различение экзистенциального и культурного – это способы переживания бытия и способы его символического выражения. Четвертый уровень – институциональный. Это тот, который определяет формальное равенство участников диалога» [6, 146-147].
Сказанное позволяет в определенной мере выделить в пространстве диалога его субъектив- ную и объективную стороны. Можно согласиться с тем, что объективное содержание (бытие) диалога раскрывает реальное, исторически-конкретные отношения и процессы. Субъективная сторона диалога имеет дело с ценностными установками и оценками участников диалога его конкретного содержания. Именно субъективная сторона определяет согласие или несогласие, истину или заблуждение, возможность развития или прекращения диалога и т.д.
Поэтому, несмотря на зависимость субъективного от объективного в пространстве диалога, определяющим условием его развертывания выступает именно личностное общение как совместный поиск и нахождение некоторой истины. Как культурный слой социального пространства возвышается над остальными его уровнями, формируя сферу активности социальных субъектов и само их существование, так и субъективная форма пространства диалога возвышается над его объективными сторонами и условиями за счет того, что проходит через все формы деятельности и общения. Это обеспечивает не только автономность личности по отношению к обществу, но и возможность личностного творчества как важного источника развития самой культуры и социума.
Таким образом, различение социального пространства и пространства диалога на основе их внутреннего единства позволяет выявить не только социально-онтологический статус диалога как функции расширения ценностносимволического уровня социального пространства и связанной с ним субъективности, но и определение статуса диалога как личностного общения, встроенного в более глубокий социальный контекст и выступающего средством его само-развертывания. Это позволяет понять и специфику бытия и развития личности на основе культуры: действительно, «произведения культуры живут диалогом личностей-культур. Но одновременно извечные кристаллические формы общения личностей-культур», которые «прорастают в живую жизнь и внутреннюю речь индивидов, формируя их реальное, вседневное общение – общение индивидов как личностей, актуализируя возможности свободного (освобожденного от жесткой связи с «условиями среды»...) поступка» [1, 213]. Таким образом, именно культура является источником диалога как формы общения и развития личностей.