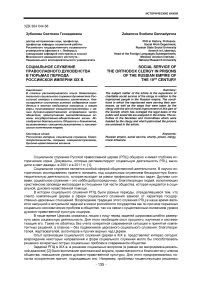Социальное служение православного духовенства в тюрьмах периода Российской империи XIX в
Автор: Зубанова Светлана Геннадиевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается опыт благотворительного социального служения духовенства Российской империи в отношении заключенных. Анализируется состояние условий содержания осужденных в местах отбывания наказания, а также меры, принимаемые священнослужителями с целью духовно-нравственного исправления части общества, преступившей законодательные основы государственно-общественной жизни. Исследуется деятельность Обществ и Комитетов, возглавляемых священнослужителями и занимавшихся попечением тюрем.
Российская империя, социальное служение, благотворительность, тюрьма, священнослужители, духовно-нравственное влияние
Короткий адрес: https://sciup.org/14936677
IDR: 14936677 | УДК: 364.044.68
Текст научной статьи Социальное служение православного духовенства в тюрьмах периода Российской империи XIX в
Социальное служение Русской православной церкви (РПЦ) обширно и имеет глубокие исторические корни. Документы, которые регламентируют социальную деятельность РПЦ, выходили в свет дважды: в 2001 и в 2011 гг. [1].
Социальное служение является особой сферой общественной деятельности. В научно-исторических исследованиях принято понимать под социальным служением бескорыстную благотворительную деятельность, которая выходит за рамки профессиональных задач. Другими словами, социальное служение – это хобби добропорядочных, благотворящих людей, исполняющих христианские заповеди милосердия в отношении той части общества, которая нуждается в социальной, духовно-нравственной помощи.
В истории социального служения РПЦ были разные периоды, определявшиеся тем, что спектр компетенций Церкви в сфере социального служения зависел от характера государственно-церковных отношений. Возрождение традиции этого служения РПЦ в наше время является насущной и актуальной задачей в жизни российского государства как по причине серьезных социально-экономических проблем в обществе, так и в связи с существенным снижением уровня духовно-нравственной культуры социума.
В наше время Церковь оказалась лицом к лицу перед задачей широкомасштабно развернуть свою социальную деятельность. Для этого необходим опыт прошлого, изучение и систематизация его. Также не обойтись без учета конкретной современной ситуации и принятия компетентных решений, а главное – без подвижников церковного социального служения: благотворителей, жертвователей, волонтеров и прочих верных чад Церкви.
Опыт организации социального служения Церкви в XIX в. представляет интерес сегодня; возрождение некоторых направлений и форм социального служения могло бы способствовать решению конкретных острых социальных проблем в современном обществе.
Задачей РПЦ в XIX в. в решении социальных вопросов (в рамках ее микродименциональ-ной диаконии) [2] было воспитание христианской морали, нравственности и благочестия у членов общества, повышение уровня духовно-нравственной культуры. Для этого предпринимались попытки искоренения причин, порождавших зло. Например, проблемы нищенствующих решались предоставлением им возможности зарабатывать себе на жизнь, и лишь отчасти – подачей милостыни; проблемы искоренения преступности решались не просто изолированием преступника от общества, а тем, что священник занимался духовным врачеванием осужденных, чтобы антисоциальный образ жизни не повторился.
Особенный вид социальной деятельности Церкви в области воспитания и развития духовно-нравственных основ жизни – социальное служение духовенства в российских тюрьмах . В работах исследователей этот вид служения РПЦ называется неодинаково; встречаются такие словосочетания синонимического ряда, как пастырское служение, патронат заключенных, тюремное попечительство, духовно-нравственное окормление осужденных.
С 1835 г. в России ссылка в монастырь осуществлялась только по Высочайшему повелению, а со второй половины XIX в. заключение в монастырь перестало быть явлением, распространенным широко [3]. Об этом Указ Святейшего Синода от 11 июля 1851 г. содержал следующее: «Заключение светских людей в монастыри (открытые эпитимии) не достигает цели и стеснительно для самих монастырей», по этой причине Синод рекомендовал отбывать наказание «негласно, под надзором отца духовнаго, каковая мера более действенная, способная возбудить в кающемся сознание совершенного им греха». Об этом пишет в своей монументальной книге В.Н. Никитин – один из первых авторов, исследовавших проблему тюремного социального служения (патроната или попечения) в России, длительное время занимавший пост директора Санкт-Петербургского комитета Общества попечительного о тюрьмах [4].
История социального служения тюремных священников в России начинается со времени правления императора Александра I, до которого состояние мест отбывания наказания характеризовалось крайней неустроенностью: «…в некоторых казармах теснота превеликая, крыши ветхи и грозят обрушиться и продовольствие арестантов не обеспечено. Тюремные сидельцы умирали без исповеди и причастия; настояние правительства перед духовенством о посещении их оставались без последствий, так как духовенство, поддерживаемое синодом, требовало жалованья, а дать его было не из чего» [5].
Общество попечительное о тюрьмах было учреждено императором Александром I в 1819 г. Этим было положено начало организационно-правовым основам деятельности губернских тюремных Комитетов и уездных Отделений. В члены Общества сразу стали вступать многочисленные желающие заниматься бескорыстной благотворительной деятельностью. В числе первых были митрополит Санкт-Петербургский Михаил и архиепископ Тверской Филарет (Дроздов), возглавивший впоследствии Московскую митрополию. Общество находилось под покровительством Александра I, который утверждал президента Общества и членов Комитета.
Целью вновь учрежденного Общества попечительного о тюрьмах провозглашалось нравственное исправление содержащихся в местах заключения преступников. Император приветствовал стремление членов Общества проявлять милосердие к заключенным в соответствии с христианскими заповедями: «был в темнице, вы пришли ко Мне» [6, с. 31].
В том же 1819 г. были Высочайше утверждены «Правила для Общества попечительного о тюрьмах», регламентирующие меры по оказанию помощи осужденным в России. В числе этих «Правил…» и пункт о «наставлении в правилах христианского благочестия и доброй нравственности…» и «Правило XI. Снабжение книгами Священного Писания и другими духовнаго содержания книгами. <…> Наставление и поучение священника, когда и где возможно такового иметь, весьма нужны и содействуют благотворной цели попечения о тюрьмах. Если найдется средство, при которой тюрьме устроить и церковь, то сие есть превосходным учреждением для душевной пользы содержащихся. Провождение воскресных и праздничных дней в благочестивых чтениях, беседах и молитве, поставляется в обязанность для Начальства тюремнаго, вводить между заключенными, общими стараниями с Комитетом попечительным» [7].
С 1820 г. Тюремный Комитет все активнее способствовал открытию на свои средства тюремных церквей, финансируя при этом и содержание причта. Деятельность РПЦ в тюрьмах определялась не только церковным установленным порядком, но и определениями Комитета Общества Попечительного о тюрьмах, и непосредственно тюремным ведомствами. Так, например, в Уставе о содержащихся под стражей [8, т. XIV] имеются следующие определения о тюремных церквях: «Ст. 226. Исправление нравственности заключенных есть один из главных предметов попечительства и занятий тюремных комитетов и отделений. Ст. 227. <…> Тюремные Комитеты и Отделения должны заботиться о сооружении церквей при тех тюрьмах, где оных не имеется. Ст. 307. В праздничные дни арестанты посылаются в церковь для слушания Божественной Литургии» [9].
Духовенство в Российской империи XIX в. достаточно внимательно относилось и к нарушителям в воинских частях. В них устраивались часовни, и приходские священники имели указание от митрополита осуществлять патронат военных заключенных. В 1869 г. были утверждены правила, вошедшие в Свод Военных Постановлений, которые касались развития у арестантов «грамотности религиозного элемента» [10]. Приведем выдержку из Правил: «Грамоте обучают арестантов унтер-офицеры, под руководством и в присутствии священника, или помощника начальника роты. <…> В воскресные и праздничные дни и накануне их, арестанты выводятся в церковь, для слушания Богослужения. При этом соблюдается: <…> б) чтобы испытуемые выводились отдельно от исправляющихся, и занимали в церкви особо назначенные для них места. Посторонние лица в церковь не допускаются. В воскресные и праздничные дни, по исправлении хозяйственных в роте работ, арестанты разряда исправляющихся и те из испытуемых, которые не содержатся в одиночном заключении, собираются в столовую, и, оставаясь в ней до обедни, слушают чтение Св. Писания. Арестанты православного исповедания обязаны в течение Великого Поста говеть поочередно, а других христианских исповеданий исполняют эту обязанность по обрядам своей Церкви, когда представится к тому возможность» [11].
Комитет Общества Попечительного о тюрьмах организовывал школы для желающих обучаться грамоте, в которых преподавали местные священники.
В 1879 г. в Российской империи при тюрьмах имелось 165 церквей, некоторые из которых были устроены на деньги благотворителей. Об том свидетельствует архивная переписка Министерства Внутренних Дел, обер-прокурора Св. Синода, сохранившаяся до наших дней в Фонде № 123 Общества попечительного о тюрьмах [12]; например, «об устройстве церкви при женском отделении тюрьмы в доме Соколова» [13]. Там, где не было церквей, богослужение совершалось в часовнях, устроенных в отдельных камерах или же просто в камерах. Вопросы штатной укомплектованности тюремными священниками мест лишения свободы были в ведении Попечительных о тюрьмах комитетов, которые практически никак не решали проблему материального достатка священников. Тюремный священник, согласно архивным документам ГАРФ [14], получал жалование из государственной казны, которое было меньше зарплаты смотрителя тюрьмы и практически уравнивалось с жалованием фельдшера, надзирателя, сторожа. Об этом свидетельствует архивное «Циркулярное предписание городских тюрем»: иногда размер оплаты труда священника составлял до 40 р. в год [15].
Часто труд духовенства в местах заключения оставался без оплаты. Особенно это было характерно для губернских и уездных городов России. Церкви, находившиеся территориально при тюрьмах, имели крайне бедственное состояние из-за отсутствия достаточных средств для поддержания даже внешнего вида. Сумма пожертвований от тюрем на церкви России в 80-е гг. XIX столетия за 10 лет составила 67 375 р. 57 3/4 к. или в год 6 700 р. – на 165 церквей, то есть на 1 церковь в год – 40 р. [16]. Если основу материального благополучия сельского духовенства составляли пожертвования прихожан, то тюремный священник имел дело с паствой преступников, которая никак не могла быть приравнена к обыкновенной пастве прихожан, и рассчитывать на какую-либо материальную поддержку с ее стороны не приходилось.
В 1878 г. было учреждено петербургское Общество Патроната [1 7] для несовершеннолетних рецидивистов Коломенского полицейского дома. По своему уставу это Общество имело право открывать отделения на всей территории Российской Империи. Подопечные не имели определенных занятий и места жительства, поэтому их выход на свободу предвещал возвращение вновь в тюремную камеру. Общество Патроната трудоустраивало своих подопечных и снабжало одеждой. В воскресные дни управитель Общества обязан был обеспечить присутствие всех опекаемых на Литургической службе в Церкви, затем – на занятиях в воскресной школе.
Во главе тюремных Комитетов стояли директора и вице-президенты, на должности которых часто назначались лица духовного звания, причем не ниже протоиерея. Например, директором пермского губернского тюремного комитета был протоиерей Евгений Попов; директором Дмитровского тюремного комитета – архимандрит Виктор [18].
Священнослужители, исполнявшие свое служение среди заключенных, составляли для своих подопечных специальные молитвословы, которые подвергались тщательному рецензированию представителей высших церковных чинов, после чего давалось заключение Обер-прокурора Св. Синода. Так, например, на ходатайство об издании молитвенника для заключенных, составленного священником Евгением Поповым и отрецензированного архимандритом Гела-сием, имеется в архивах отрицательная резолюция Обер-прокурора Св. Синода: «Молитвенник оказался неудовлетворительным» [19].
Кроме составления молитвенников, некоторые священнослужители занимались написанием поучительных книг, например, «Поучение к подсудимым и ссыльным» (1862 г.) священника Евгения Попова [20].
Общества Попечительные о тюрьмах в Российской империи имели особенно большой размах деятельности во второй четверти XIX в. Усилиями Обществ заключенные были заняты общественно полезными работами; они получали литературу из тюремных библиотек, с ними проводились беседы священнослужителями и занятия по обучению грамоте; места лишения свободы, по мере возможности, обустраивались; возводились новые здания, строились тюремные церкви или устраивались молельные комнаты в специально приспособленных камерах [21].
Одной из основных задач их деятельности оставалось всегда нравственное исправление осужденных. О таком направлении деятельности свидетельствует документ, хранящийся в Архиве Канцелярии Общества Попечительного о тюрьмах «О исправлении нравственности пересылаемых арестантов посредством духовного их назидания во время пути» [22]. Документ гласит: «Государственный Совет <…> обратил внимание на способы к исправлению нравственности преступников, признал весьма полезным употреблять меры духовного назидания как при отправлении преступников в Сибирь, так и во время пути их» [23].
В Святейшем Синоде было составлено руководство для священнослужителей. Для иллюстрации гуманистических, христианских подходов к решению священником сложных нравственно-психологических задач приведем одно из «Правил для назидания пересылаемых в Сибирь преступников в обязанностях веры и нравственности, во время следования их к местам назначения» – правило № 5: «Священник должен беседовать с христианской любовью, простотою и снисхождением и тщательно остерегаться, чтобы не говорить уничижительно и оскорбительно. Ибо низко преступление, а человек достоин сострадания» [24].
Примером морально-нравственного воспитания заключенных может служить опыт священника Иосифа Фуделя, который в течение 15 лет (1892–1907) осуществлял патронат осужденных Бутырской тюрьмы [25].
Тюремные Общества в Российской империи просуществовали до 1893 г., потом они были преобразованы в Тюремно-благотворительные комитеты, которые лишились большинства полномочий за исключением вопросов материальной помощи заключенным. В течение 1918–1919 гг. церкви в российских тюрьмах закрылись и прекратилось посещение тюрем священнослужителями. Общество попечительное о тюрьмах, распространявшее свою благотворительную деятельность на места лишения свободы, и было ликвидировано в связи с учреждением в январе 1918 г. Тюремной коллегии при Народном комиссариате юстиции РСФСР.
Таким образом, духовно-нравственному врачеванию осужденных уделялось особенное внимание в социальном служении священнослужителей в российских тюрьмах в XIX в.: активно участвовали в деятельности Комитетов Общества Попечительного о тюрьмах архипастыри; церкви при тюрьмах устраивались в городах, где успешно работали Комитеты и Отделения Общества Попечительного о тюрьмах.
Приведенным анализом не исчерпывается все многоплановое социальное служение Русской православной церкви в отношении заключенных в XIX в. В рамках одной статьи невозможно осветить огромный социально-исторический опыт этого служения. Однако, представленные в данной работе материалы свидетельствуют о том, что многие формы и методы социального служения РПЦ остаются актуальными и сегодня. В настоящее время во многих исправительно-трудовых учреждениях открыты православные храмы, часовни или молельные дома. Священники патронируют заключенных, проповедуют Евангелие, совершают богослужения, способствуя смягчению сердец людей, преступивших закон, и многих приводят к истинному раскаянию. Вместе с этим, постоянные поучения священника, разъясняющего заключенным важнейшие догматы религии и приводящего им разнообразные примеры христианской жизни, пробуждают в них готовность с терпением и смирением переносить наказание за совершенные преступления и воздерживать себя от них в будущем.
Поэтому одна из основных задач тюремного социального служения православного духовенства, поставленных государством и современным обществом перед Церковью: через духовно-нравственное возрождение заключенных содействовать их ресоциализации во время отбывания срока наказания и после их освобождения.
Ссылки:
-
1. Основы социальной концепции РПЦ // Информ. Бюл. № 1. Апрель, 2001; О принципах организации социальной работы в РПЦ // Док. от 04.02.2011. URL: patriarchia.ru/db/text/1401894.html (дата обращения: 20.03.2014).
-
2. Дорская А.А. История социального служения Русской Православной Церкви (Рецензия) // История. Право. Политика. 2010. № 1. С. 12.
-
3. Скоморох О. Пастырское служение в тюрьме в настоящее время. СПб., 1998. URL: http://otechnik.narod.ru/skomor-cvp_1.htm (дата обращения: 20.03.2014).
-
4. Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. Историческое, законодательное, административное и бытовое положение заключенных, пересыльных, их детей и освобожденных из-под стражи, со времен возникновения русской тюрьмы до наших дней. 1560–1880 г. СПб., 1880. С. 398.
-
5. Фридман Е.Ф. Материалы к изучению тюремного вопроса. СПб., 1894. С. 5.
-
6. Новый Завет. Евангелие от Матфея. М., 1992. Гл. 25–36. С. 31.
-
7. Дело об учреждении Комитета Общества попечительного о тюрьмах // РГИА. Ф. 1287. Оп. 11. Д. 1858.
-
8. Свод Законов Российской Империи: в 5 кн. СПб., 1912. Кн. 5.
-
9. Коковцов В.Н., Рухлов С.В. Систематический сборник узаконений и распоряжений по тюремной части. СПб., 1894. С. 324–329.
-
10. Свод Военных Постановлений. СПб., 1869. Кн. IV.
-
11. Никитин В.Н. Быт военных арестантов в крепостях. СПб., 1873. С. 25, 37.
-
12. Зубанова С.Г. Социальное служение волонтера: учеб. пособие. М., 2012. С. 51.
-
13. ГАРФ. Ф. 123. Оп. 1. Д. 637. Л. 5.
-
14. ГАРФ. Ф. 123. Оп. 1. Д. 506. Л. 12.
-
15. ГАРФ. Ф. 122. Оп. 6. Д. 50. Л. 70–76.
-
16. Сборник сведений по общественной благотворительности. СПб., 1886. Т. 7. С. 447.
-
17. Зубанова С.Г. Социально-историческая роль Русской Православной Церкви в XIX столетии. М., 2002. С. 138.
-
18. ГАРФ. Ф. 123. Оп. 1. Д. 438. Л. 6.
-
19. ГАРФ. Ф. 123. Оп. 1. Д. 447. Л. 6–13.
-
20. ГАРФ. Ф. 123. Оп. 1. Д. 279. Л. 31.
-
21. Галкина Н.И. Институт тюремного попечительства в Российской империи и его особенности на Кубани: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. URL: http://lawtheses.com/institut-tyuremnogo-popechitelstva-v-rossiyskoy-imperii-i-ego-osobennosti-na-kubani (дата обращения: 20.03.2014).
-
22. ГАРФ. Ф. 123. Оп. 1. Д. 85. Л. 21.
-
23. ГАРФ. Ф. 123. Оп. 1. Д. 85. Л. 3–8.
-
24. ГАРФ. Ф. 123. Оп. 1. Д. 85. Л. 10–12.
-
25. Фудель С.И. Собрание сочинений: в 3 т. Воспоминания. У стен Церкви. Воспоминания об отце Николае Голубцове.
Моим детям и друзьям. Письма / сост., подгот. текста и коммент. прот. Н.В. Балашова, Л.И. Сараскиной; предисл. прот. В. Воробьева. М., 2001. Т. 1.