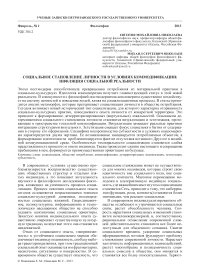Социальное становление личности в условиях коммодификации: инфляция социальной реальности
Автор: Николаева Евгения Михайловна, Николаев Михаил Сергеевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (130), 2013 года.
Бесплатный доступ
Эпоха постмодерна способствовала превращению потребления из материальной практики в социально-культурную. Идеология консюмеризма получает главенствующий статус в этой новой реальности. В совокупности с философией постмодернизма консюмеризм существенно воздействует на систему ценностей и поведение людей, влияя на социализационные процессы. В статье проводится анализ метаморфоз, которые претерпевает социализация личности в обществе потребления. Сегодня возникает новый исторический тип социализации, для которого характерна оторванность социально-культурных практик, повседневного опыта личности от конкретной территории. Это приводит к формированию детерриторизированных (виртуальных) локальностей. Основными детерминантами социального становления личности становятся визуализация и эстетизация, протекающие в пространстве тотальной коммодификации. Визуализация замещает реальные практики интеракции структурами визуального. Эстетизация смещает фокус социального бытия от содержания в сторону его оформления. Специфика воспроизводства субъектности в условиях консюмеризма характеризуется двумя чертами. Ее возникновение инициируется потребляемым объектом, а формирование идентичности проблематизируется фактом отсутствия истинного Другого в медийной коммуникационной среде. Особенностью темпоральности социализации становится слабая представленность прошлого в опыте индивида. Также происходит сжатие настоящего и сокращение пребывания в нем, формируется преимущественная ориентация на будущее.
Социализация, общество потребления, коммодификация, детерриторизация, медиатизация, эстетизация, субъектность
Короткий адрес: https://sciup.org/14750360
IDR: 14750360 | УДК: 304.2
Текст научной статьи Социальное становление личности в условиях коммодификации: инфляция социальной реальности
В современных условиях существенно про-блематизируется воспроизводство существующих общественных структур и отдельно взятых индивидов, а это повышает актуальность научного и философского исследования факторов, влияющих на успешность процесса социализации. Процесс освоения социального опыта сегодня осложняется возрастающими темпами социально-культурной динамики, неоднородностью социальных влияний. Сверхдинамичное, поликультурное, информационно и технологически насыщенное общество не способно задавать однозначные социальные ориентиры. Зачастую новизна индивидуального опыта существенно опережает существующую культурную традицию, вследствие этого она становится неадекватной.
Отказ от социального опыта, «непривязан-ность» к устойчивым социальным меркам обеспечивает индивиду подвижность, свободу выбора траектории развития, при этом традиционный социальный опыт осваивается им фрагментарно, несистемно, ситуативно и поверхностно. В современном обществе существует опасность, что
социальное становление может не осуществиться для многих индивидов, которые строят свою идентичность вне социального поля, вне социального контекста. Массовое перемещение молодежи в альтернативную медийную социальность, где важнейшим институтом социализации становится Сеть, приводит к тому, что киберреалии (функции, роли, контакты) становятся более значимыми, чем реально-социальные.
В современном индивидуализированном обществе ослабевают и утрачиваются социальные связи, растет обособленность человека. Скорость нарастания социальных изменений становится нечеловекоразмерной, и, соответственно, рациональное осмысление современной сложной действительности становится все более недоступным для обыденного сознания. Сжатие социального времени, ускорение социальных иформационных потоков фундируют проблему становления современной личности. Нарастает хаотичность информационных взаимодействий, растет многообразие и полисемичность социальных смыслов в обществе, они множатся и становятся все более относительными. Теряют- ся жизненные ориентиры личности, «размывается» общезначимое. Индивиду необходимо в первую очередь удержаться в настоящем, успеть набрать нужное количество «знаков» и вовремя поменять их для того, чтобы обрести актуальную конфигурацию (формальную индивидуализацию – по выражению З. Баумана), несущую свойства потенциальности, способную к дальнейшим трансформациям.
Принадлежать «модернити» (так З. Бауман называет современное общество) – значит быть не в силах остановиться, не говоря уже о том, чтобы стоять на месте. Принадлежать «модер-нити» – значит вечно опережать самого себя, находиться в состоянии постоянной трансгрессии, это значит обладать индивидуальностью, которая может существовать лишь в виде незавершенного проекта [1].
Представляется, что перечисленные факторы являются симптомом серьезных метаморфоз, которые претерпевает социализация личности в глобальном потребительском обществе. В этой связи особую значимость приобретает философский дискурс социального становления личности. Он в настоящее время является наиболее плодотворным в осмыслении феномена социализации, поскольку позволяет увязать его трансформации с развитием общества, культуры, перспективами цивилизации.
Доминантой социально-экономической и культурной жизни современного общества становится не знающее пределов стремление к потреблению. Логика сегодняшней глобализации мира – это логика активного внедрения и продвижения стандарта западного образа жизни, широкой экспансии западной потребительской культуры. Потребление, выходя за рамки экономической сферы, осуществляя экспансию на ранее «непотребительские» сферы, становится эквивалентом социальной активности. Тотальная коммодификация делает единственно значимым социальным действием покупку. Тем самым идеология потребительства запускает механизмы инфляции социального, редуцирует всякое социальное взаимодействие, социальное отношение к товарообмену. Известный немецкий социолог У. Бек отмечает: «Мы являемся свидетелями метаморфозы общества… в ходе которой люди освобождаются от социальных форм индустриального общества – от деления на классы и слои, от традиционных семейных отношений… точно так же как в ходе Реформации они освобождались от господства Церкви и переходили к формам жизни светского общества» [2; 78].
Современный философский дискурс социализации вводит нас в средоточие острейших проблем, связанных с изменением общекультурного содержания таких значимых категорий, как реальное – медийно-виртуальное, локальное – глобальное, субъективное – объективное, этичное
– эстетичное, личное – общественное. Он предоставляет возможность взглянуть на социальное становление личности в условиях консюмеризма в сопряжении с такими категориями, как природа и сущность человека, смысл его социального бытия и предназначение в мире, субъектность и идентификация.
Потребление в антропологическом измерении – это прежде всего социокультурный процесс, в ходе которого происходят социальное становление и идентификация индивида. Это генеральная социальная практика, конструирующая личность. Однако в современном обществе потребление становится пространством, в котором «производится» человек асоциальный. Нарушается диалектика производства (опредмечивания) – потребления (распредмечивания). По определению, потребление должно быть не чем иным, как практическим и теоретическим освоением, распредмечиванием предметов культуры, расшифровкой отложений в мире культуры. Но научиться распредмечивать мертвый сам по себе вещный мир культуры нельзя в полной мере, если субъект культуры не усвоил противоположную форму деятельности – процесс опредмечивания, очеловечивания природы в результате проектирования новых форм предметности. Следовательно, тип человека как «потребителя по преимуществу» отражает противоречивость социального бытия, ведет к одностороннему и ущербному развитию личности, к неспособности осваивать смысловое богатство мира культуры.
Топос социализации в современном обществе – это детерриторизированное и медиати-зированное пространство, где господствуют эстетизированные зрелищные формы. Он утрачивает субстанциональность, ему все больше присущи атрибуты воображаемого, наблюдаемого. В потребительском обществе ослабевают межпоколенческие связи, процессы наследования социально-культурных норм и идеалов становятся все более проблематичными. Если традиционные процессы социализации предполагают укорененность индивида в локальности, наличие точки пребывания (локуса), то социальное становление в современном обществе отличается детерриторизацией – утратой локальности, отрывом от корней. Мы имеем дело с «плавающей социализацией», в которой культурный опыт не имеет тесной связи с определенным местом.
П. Слотердайк по отношению к современному человеку использует метафору «освобожденный от пут реальности» [4].
Важным механизмом социального становления является локальная повседневная практика людей, которую социальный антрополог У. Хан-нерц называет «оформляющая жизнь рамка» (form-of-life frame) [5]. Эта рамка вбирает ежедневную обыденную деятельность, профессиональную активность, коммуникацию со своим непосредственным окружением. Все это имплицитно содержит использование символических культурных форм. В пределах (локусе) этой «оформляющей рамки» производится и распространяется культура, устойчиво циркулируют значения. При этом ее генеральная роль заключается в том, что внешние, привносимые культурные элементы (а в современном мире они носят характер глобального и универсального) подвергаются ревизии существующим локальным опытом, традицией. Вследствие этого они могут быть приняты, отвергнуты, трансформированы и т. д.
В условиях современного общества эта «рамка» разваливается, все больше проблематизи-руется ее функция оформления, локализации бытийственного пространства личности. Оторванность социально-культурных практик, повседневного опыта от конкретной территории приводит к формированию детерриторизиро-ванных локальностей. Французский антрополог М. Оуже полагает, что глобализация замещает реальные локальности «безместностью» («non-places»). «Если место определяется в отношениях, связано с историей и формирует идентичность, то место, которое не может быть определено в отношениях истории и идентичности, является “безместностью”» [7; 108–109].
В современном обществе происходит значительная модификация самого понятия «локальное». Сегодня можно вести речь о двух совершенно разных типах локального: первый – конкретное локальное (определенное место, имеющее пространственно-географические координаты), второй – виртуальное локальное (фрагмент информационного гипертекстового пространства). Взаимодействие этих двух видов локального зачастую носит конфликтный характер. Виртуальная локальность, обладающая небывалыми возможностями детерриториальности, подрывает социально-культурный статус локального в его традиционном понимании. Пребывание индивида «здесь и сейчас» уже не детерминирует стиль и способ его социальнокультурной реализации.
Традиционно формирование содержания картины мира, ее структурирование происходило внутри социальной реальности. Сегодня основным поставщиком этого содержания становятся медиа. Они дирижируют многими аспектами обыденной жизни (нашими привычками, предпочтениями, пристрастиями). Медиареальность таким образом вытесняет и замещает реальность социального локуса. Именно в этом пространстве происходят идентификационные процессы. Перманентное поточное производство идей, текстов, визуальных образов создает иллюзию свободы выбора. Однако следует принимать во внимание тот факт, что далеко не каждый потребитель способен самостоятельно ориентироваться в безграничном потоке культурных артефак- тов. Основная причина затруднений кроется в том, что для осуществления выбора необходимо владеть совокупностью эстетико-культурных критериев. Это своеобразный «эстетический фильтр», который обеспечивает должный уровень рефлексии. Риск оказаться под влиянием чужих, зачастую заниженных эстетических предпочтений существенно возрастает, если индивид не обладает подобным «фильтром».
Эта проблема отражает диалектику современного глобализированного общества. Очевиден дихотомичный характер процесса визуализации. Следует признать, что современные структуры визуализации позволяют индивиду преодолевать рамки традиционных (во многом рутинных) социальных правил, несут в себе большой потенциал креативности. При этом одновременно они и деструктивны, поскольку уводят человеческое сознание от реального мира, его сложности, многогранности, подменяя реальность продуктами визуальной индустрии, значительно сужая «когнитивное окно» индивида. Э. Гидденс в этой связи подчеркивает, что «жизнь в веке информационном требует... большего объема социальной рефлексивности… нам постоянно приходится думать или размышлять об обстоятельствах, в которых мы проводим жизнь» [5; 23]. Погружение в новую, насыщенную структурами визуального социальность, может стать для индивида как точкой роста, разворачивания субъектности, так и точкой деградации.
Пространство медиа, претендуя на статус бытийственного пространства личности, продуцирует особый тип социализации. В ее основе – принципиально гибкий (алертный) тип социальной адаптивности, отличающийся готовностью быстро реагировать на вызовы окружающей среды. Человеку с традиционным типом социальной адаптивности, который привязан к определенному социальному локусу, в подобных обстоятельствах грозит тяжелый экзистенциальный конфликт.
Процессы самореализации индивида начинают протекать не по социальным законам, а по законам эстетического, которое реализует себя в форме тотальной эстетизации, имеющей технологический характер. Здесь каждый феномен обладает равным со всеми правом быть в полной мере выраженным, несмотря на возможные общие моральные ограничения. Соответственно, отсутствие содержания, смысла, этический дефицит зачастую восполняются посредством апелляции к эстетическим формам.
Гламурная эстетизация, преодолевая границы моды, становится в обществе потребления мейнстримом социальной адаптации. Она фокусирует внимание человека на единственном стремлении – усовершенствовать свою форму, чтобы быть «нормальным», воспринимаемым другими, разделяющими эту норму. Таким об- разом, если человек стремится к рецепции и признанию в этом обществе, он должен не только потреблять эстетическое, но и одновременно производить эстетику. А подобная тенденция указывает на подрыв социального, на его замену эстетизированным, визуализированным, коммуникативным.
Суть социализационного процесса в обществе массового потребления сводится к тому, что человек (субъект) отдает себя объектам. Деятельность человека, его мышление, суждения, оценки исходят из этого служения объекту. Как правило, этот объект символизирует первенство, обеспечивает возможность удержаться в «поле», в «норме» принятого потребителями стереотипа. Реальной ценностью становится объект, его символическая основа, и под вопросом оказывается феномен субъектности. В этой ситуации от индивида не требуется самовыражения в поступке, в языке, в обретении смысла собственной активности.
Социализация современного человека начинает все в большей степени реализовываться через потребительскую культуру, через практики потребления (практики сиюминутных радостей и удовольствий). Будучи однообразными (гомогенными), они отличаются поверхностным, гедонистическим отношением к действительности, безусильственностью и как следствие -бессубъектностью. В то же время социализация по определению призвана взращивать в человеке субъектность, поскольку центральное место в ней занимает программа деятельности субъекта.
Все очевиднее становится растущая объект-ность человека в потребительском обществе, при том что он полагает себя субъектом. Единственным источником и главным содержанием субъектности (псевдосубъектности) становится способность потреблять. Этот источник, становясь универсальным мерилом субъектности, на самом деле уничтожает всякую субъектность. Гедонизм потребительской культуры вызывает духовнонравственную редукцию субъектности, ведь субъект обнаруживается и проявляется только в актах своей самодеятельности. Тот тип социальности, который формируется в обществе потребления, не создает благоприятных условий для взращивания и обнаружения субъективной реальности. Субъективация как личностное полагание себя в мир в качестве субъекта подменяется здесь «приобретением» субъектности, поисками опоры для своего «Я» в потребляемых символах.
Становление нового исторического типа социализации, характерного для общества массового потребления, приводит к свертыванию, нейтрализации субъектности. По существу это партикулярная социализация, сводящая многообразие эффектов социализации к одному - способности проявлять потребительскую (а следовательно, социальную) активность.
В этой ситуации со всей остротой встает вопрос идентичности человека. Известно, что идентичность возникает на границе между индивидом и социальностью, поскольку она производна от субъектности индивида, но возможна лишь в социально-культурном контексте.
Технические особенности технологии новых медиа, особенно Интернета как средства коммуникации, создают почву для осуществления иллюзии самореализации личности в процессе виртуального общения с символическим Другим, подрывающую основы теории единственно возможного существования субъекта только в противопоставлении Себя Другому и во взаимодействии с ним. Следовательно, истинного Другого для медийного субъекта не существует. Его наличие необязательно для целей самовыражения личности в виртуальном пространстве. Таким образом, в поле зрения остается только говорящий субъект - только «Я», самовыражающееся в процессе общения с «самим собой» (ибо образ Другого конституируется Мной). Другой создается по образу и подобию собственного «Я», на него как бы перекладываются, переносятся свойства этого самого «Я» (самооценка, система релевантностей и интересов).
Кроме того, в современной делокализиро-ванной и медиатизированной социальности человеческая идентичность имеет перманентно процессуальный характер, формируясь вновь и вновь. Идентичность сегодня - это текст, повествующий об индивиде, при этом индивид непрерывно переписывает и редактирует этот текст. Современный человек существует в мире, базовой характеристикой которого является неопределенность. Стремительность, глубина и непредсказуемость изменений приводят к тому, что глобальной проблемой развития личности становится постоянное расширение масштабов личностного изменения, которое необходимо для успешной социализации. Индивид вынужден все больше ориентироваться на социальную практику, где приоритетом становится опора на настоящее и даже будущее. Традиционные образцы поведения не успевают реагировать на изменения и становятся неадекватными, а потому ненадежными.
Отечественный исследователь В. А. Мамонова отмечает: «...современный транскультурный человек обязан владеть множеством кодов, культурными языками нескольких систем, балансируя на самоорганизации и саморассеивании» [3]. Насущной необходимостью становится развитие толерантности к неопределенности как основы социального становления личности. Неизбежной становится релятивизация этического пространства человеческих отношений, а мировоззренческая нелинейность (способность менять позиции, взгляды, убеждения) для современного человека становится социализационной нормой.
PERSONALITY SOCIAL DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF COMMODIFICATION: INFLATION OF SOCIAL REALITY
Список литературы Социальное становление личности в условиях коммодификации: инфляция социальной реальности
- Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. 390 с.
- Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.
- Мамонова В. А. Внутренний диалог в полночь экзистенции [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://credonew.ru/content/view/983/65/
- Слотердайк П. После истории [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.photounion.by/klinamen/fila_22
- Giddens A. The consequences of modernity. Cambridge: Polity in association with Blackwell, 1990. 186 p.
- Hannerz U. Transnational connections. Culture, People, Places. London; N. Y: Routladge, 1996. 216 р.
- Tomlinson J. Globalization and Culture. Chicago: The University of Chicago Press; Cambridge: Polity Press, 1999. 238 р.