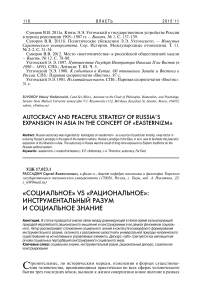«Социальное» vs «рациональное»: инструментальный разум и социальное знание
Автор: Рассадин Сергей Валентинович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 11, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ связи между доминирующей в Новое время калькулирующей природой европейского рационального мышления и конструируемым в ее рамках феноменом социального. Автор рассматривает становление социального знания в контексте изоморфного формирования инструментального разума, склонного к разложению целостной и универсальной природы человеческого существования на исчисляемые и управляемые элементы. Дискурс «ratio» трактуется как имплицитная основа социальных пертурбаций конструируемого социального мира.
Социальное знание, инструментальный разум, рациональный дискурс, социальное конструирование
Короткий адрес: https://sciup.org/170167721
IDR: 170167721 | УДК: 17.023.1
Текст научной статьи «Социальное» vs «рациональное»: инструментальный разум и социальное знание
Стремительные, по историческим меркам, изменения в формах существования человечества, проявляющиеся практически во всех сферах человеческого бытия трех последних веков, вызвали к жизни совершенно новое явление в рамках традиционных сфер философской рефлексии – феномен ярко артикулированного и четко очерченного социального дискурса/знания.
Будучи продуктом последовательного и поступательного развертывания ряда интенций иудео-христианской традиции, выразившейся на исходе Средних веков в идее примата разума, проект Модерна стал, в свою очередь, камнем преткновения для интеллектуалов Нового времени, породив философию нового постметафизического типа и создав новое дисциплинарное поле – социальное знание. Фиксацию фундаментального положения разума в новоевропейской культуре современный американский философ Ричард Рорти связывает с трансформацией традиционного христианского понимания истины. С его точки зрения, истина становится универсальным ключом, раскрывающим все доселе тайные аспекты человеческого существования. Обозначив данный вид истины через понятие «искупительная истина», Рорти дефинирует его следующим образом: « это совокупность верований [ believes ], которые должны завершить раз и навсегда размышления о том, что нам делать с нами самими. Искупительная истина не состоит из теорий о причинноследственных взаимодействиях вещей, но удовлетворяет ту человеческую потребность, которую прежде пытались обслуживать религия и философия. Это потребность увязать все на свете – все события, всех людей, все идеи – в некий единый контекст, который каким-то образом оказался бы естественным, предопределенным и единственно возможным. А также единственно значимым для определения смысла человеческой жизни, потому что только в данном контексте человеческое существование будет явлено в истинном свете» [Рорти 2003]. Виднейший представитель франкфуртской школы Макс Хоркхаймер констатирует неявную трансформацию самого разума, его преобразование в инструмент социального прогресса, повлекшее за собой и фатальную утрату прежнего, целесообразного характера разума: «Отказавшись от автономии, разум стал выполнять роль инструмента… Разум целиком впрягся в колесницу социального процесса. Единственным критерием для него стала его операциональная ценность и его роль в господстве над людьми и природой» [Хоркхаймер 2011: 27-28].
Само понятие «социальное» как предмет рефлексии особой формы является продуктом развертывания множества дискурсов Нового времени. Причем, как отмечает Бруно Латур в книге «Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию», в ходе этого развертывания само социальное, став общим местом современного знания, в нем же и «потерялось»: «социальное в разбавленном виде есть всюду, а в чистом – нигде» [Латур 2014: 12]. Манифестация данного феномена как некоего детерминанта всех других сфер человеческой жизни (политической, религиозной, моральной, экономической и др.), поиск антропологических оснований социальности позволяют одновременно дезавуировать трансцендентные инстанции общества и интериоризировать начала социального бытия в самом человеке, а точнее, в его уникальном атрибуте – разуме. Артикулированная задача данной рефлексивной работы – реконфигурация самого социального (как тела, организма, нации, «системы» и т. д.) – предопределяет и сами способы его описания, что приводит к постоянно репродуцируемой проблеме адекватности самих языков описания и, как следствие, критике фальсифицированных и поиску новых инструментов «познания vs изменения» социума.
Еще более рельефно неадекватность теоретических средств, разработанных в рамках проекта Модерна в XVIII – начале XX в., была высвечена теоретическими и практическими результатами социальных процессов XX в., которые поставили под вопрос сам способ мыслить о социальном. Постепенно феномен социального превращается в одну из главных проблем современной мысли, обнаруживающих не только различные, но и крайне отличающиеся друг от друга решения, порой даже противоположные способы ее постановки и толкования.
Рассмотреть способы и толкования данного феномена, эксплицировать механизмы его действия, а также попытаться осмыслить (хотя бы путем крайнего огрубления) само существование и функционирование социального в форме вполне определенных дискурсов и весьма неопределенного знания в контексте реалий прошедшего века кажется весьма актуальной задачей. Как отмечает один из социальных теоретиков XX в. Питер Уинч, «понимать природу философии и понимать природу социальных исследований означает одно и то же. Ибо стоящее исследование общества должно быть философично по характеру и любая стоящая философия должна интересоваться природой человеческого общества» [Уинч 1996: 4].
Современный белорусский исследователь В.Л. Абушенко предлагает в процессе постижения феномена «социальное» пользоваться не дисциплинарными установками и рамками, а сформированными дискурсами: «В случае современной социальной теории мы имеем дело не с какой-то особой дисциплинарностью или попыткой комплексирования разных дисциплинарностей, а с формированием особого рода дискурса, в котором разнородные по своему дисциплинарному происхождению предметности и тематизмы накладываются друг на друга в поле общей коммуникации» [Абушенко 2007: 261]. Тем самым в рамках имеющихся методологических принципов дискурсивного анализа видится возможным теоретическое дискурсивное осмысление феномена общества.
Дискурсивный анализ выявляет историчность феномена «социальное», его четкое атрибутирование местом и временем описания. Любой дискурс о социальном определялся условиями его возникновения и развития. Так, первую попытку артикулировать социальное как целое можно обнаружить в христианской мысли. Творчество Аврелия Августина, в частности его фундаментальный «Град Божий», отражает стремление отца Церкви определить ряд компонентов социального, вписав его в целостную структуру бытия. При этом очевидно отсутствие у него выраженного социального дискурса. П. де Лобье подчеркивает традиционность концептуального аппарата Августина: «У Августина не было определенной модели организации общества, и он только устанавливал критерии справедливости, которая из множества [multitude] создает народ [populous]» [Лобье 2001: 45].
Появление общества Модерна, обусловленное трансформацией средневековых социальных отношений в отношения, заданные возникающими новоевропейскими обществами-государствами национального типа, заставило интеллектуалов осуществить активную рефлексию по осмыслению форм будущего социального порядка. Отделение нового – светского – общества от вселенского-католического (например, «третьего града» Августина Блаженного), было во многом инспирировано изменением установок самого разума, точнее, реконфигурацией концептов и самого дискурсивного действия, которые в большей степени стали опираться на интеллектуальные процедуры, подразумевающие четкую калькуляцию дискурсивных элементов и логическую последовательность аргументов. Картезианское ratio плавно стало интеллектуальным мейнстримом Европы.
Генеалогия (в ницшевском смысле) различных интеллектуальных традиций толкования разума позволяет выявить их наличие еще в схоластической мысли. Так, в работах Фомы Аквинского концептуально различаются интеллект ( intellectus ) и собственно разум ( ratio ). Использование данных понятий как во многом комплементарных в то же время позволяет Фоме сохранить их специфические коннотации, заданные латынью. С.С. Неретина подчеркивает в большей степени универсальный характер концепта «интеллект», обозначающий возможность всеобъемлющего постижения человеком всего сущего. « Intellectus ( intellect, understanding, meaning, conception, idea ) – интеллект, понятие, значение, понимание; познавательная способность, которая направлена на понимание сущего. ‹…› Интеллект есть потенция всего интеллигибельного» [Неретина 2002: 560-561]. Разум как ratio в большей степени относится к поэтапному, последовательному пониманию истины через калькуляцию понятий и их связывание в логические цепочки: « ratio ( reason, nature, relation, principle, ground, argument, definition, criterion ) – разум, природа, отношение, принцип, основание, довод, определение, критерий; часто использовалось как синоним интеллекта и как оппозиция вере; подразделяется на спекулятивный и практический. ‹…› Разум как интенция может означать определение вещи. Поскольку разум может давать определения, он используется для определения конечных, формальных и других причин» [Неретина 2002: 580]. Этимология понятия «рацио» недвусмысленно сочетает действие «думать» и
«считать»: «Происходит от лат. ratio (rationem) “счет, сумма; отношение; обоснование”, родств. reri “считать, думать”; восходит к праиндоевр. *re – “считать, думать”» [Неретина 2002: 580].
Стоит отметить, что для Фомы Аквинского разные интеллектуальные процедуры служили одной цели – установлению различных видов истины (божественной, природной, человеческой) без соотношения при этом с объектами познания. Социальное как самостоятельный феномен практически не существует в дискурсе отца Церкви, обнаруживаясь в более значимых для мыслителя категориях «закон» и «государство». Джордж Ритцер подчеркивает бесполезность разумного осмысления категории общества, отмечая, что «общество имело божественное происхождение; следовательно, разум, столь важный для философов Просвещения, рассматривался как подчиненный по отношению к традиционным религиозным представлениям. Более того, считалось, что, поскольку Бог создал общество, людям не следует вмешиваться в существующий порядок и пытаться изменить священное творение» [Ритцер 2002: 24]. Аквинат жестко соотносит онтологический порядок и иерархию законов (Бога, природы и человека), что позволяет ему предельно четко определить направленность различных аспектов разума. Тем самым интеллект у Фомы, не претендуя на изменение божественных и природных законов или влияние на них, служит интеллигибельному постижению всего сущего, а область человеческих законов как раз становится местом проявления способностей разума -ratio правителя: «мы можем составить определение закона, который есть не что иное, как направленное на общее благо и обнародованное установление разума того, кто призван заботиться обо всем сообществе» [Фома Аквинский 2010: 10].
Таким образом, уже в схоластической мысли можно обнаружить предпосылки будущего рационального постижения и даже исчислимого управления и переустройства сферы человеческих отношений, правда, пока еще без концептуально выделенного предмета калькуляции. Последующее развитие социального знания осуществляется практически полностью в рамках рационального познания и трансформации социального порядка.
Макс Хоркхаймер, анализируя проявления инструментального разума («Затмение разума. К критике инструментального разума», 1947), подчеркивает, что европейская мысль развивала две полярные теории разума – объективную и субъективную. Первая направлена на достижение всеобщих целей и традиционно объединяет человека с целым (человечеством, миром, Богом). Автор отмечает: «Великие философские системы Платона, Аристотеля, схоластиков, немецких идеалистов основывались на объективной теории разума. Она была нацелена на развертывание всеобъемлющей системы, или иерархии, всех существ, включая человека и его цели. Степень разумности жизни человека определялась ее гармоничностью с целым» [Хоркхаймер 2011: 9]. Очевидно тождество разума-интеллекта с данной трактовкой объективного разума. Субъективная теория разума опирается, по Хоркхаймеру, на подсчет вероятностей: «если мы говорим, что некая организация или иная реальность разумна, мы обычно имеем в виду, что она была разумно организована людьми, которые с большей или меньшей технической методичностью применили свою способность к логическому рассуждению и расчету» [Хоркхаймер 2011: 10]. Превалирование в Новое время субъективного разума устраняет существовавшие ценностные основания разума объективного. Поскольку, как отмечает М. Хоркхаймер, «разум в его собственном смысле как logos или ratio всегда был сущностно соотнесен с субъектом, с его способностью мышления» [Хоркхаймер 2011: 12], постольку он сам не только генерирует новые понятия, но и определяет их объективность. Устранение глубинных ценностных оснований приводит разум к окончательной формализации и замыканию его на самом себе. Становление инструментального разума, замкнувшего разум- ratio и конструируемое этим разумом общество, как это видит Хоркхаймер, привело европейское общество к реалиям XX в.
Потеря ценностного фундамента имплицирует и отсутствие общей цели для холистически понимаемого общества. Инструментальный разум, стремясь к тотальной калькуляции, запрограммированно подавляет как человека, так и обще- ство в целом. Макс Хоркхаймер констатирует эту бесцельность инструментальной деятельности рацио: «…самоотречение индивида в индустриальном обществе не связано ни с какой целью, которая была бы трансцендентной этому обществу. Такой отказ означает рациональность в отношении средств и иррациональность в отношении человеческого существования. Печать этого разлада, не в меньшей степени чем индивид, несут на себе также общество и его институты» [Хоркхаймер 2011: 110].
Эксплицировать этот разлад с помощью самого инструментального разума в рамках традиционных дискурсов социального знания крайне сложно, т.к. понятия и дискурсы, описывающие общество, создают герметичную структуру, максимально подавляющую возможности внутренней критики. Тем не менее такие яркие социальные тренды современности, как расизм, геноцид, холокост, международный терроризм, массовая миграция и др., демонстрируя совершенно нерациональную (не калькулируемую) природу, оказываются дискурсивным событием, способным деконструировать рациональную социальную теорию Нового времени.
Список литературы «Социальное» vs «рациональное»: инструментальный разум и социальное знание
- Абушенко В.Л. 2007. Социальная теория: о возможности согласования дисциплинарных эпистемологических позиций. -Вопросы социальной теории: научный альманах. Т. I. Вып. 1. Философские и научные основания современной социальной теории (под ред. Ю.М. Резника). М.: ИС РАН. С. 246-262
- Латур Б. 2014. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию. М.: ИД ВШЭ. 384 c
- Лобье де П. 2001. Три града. Социальное учение христианства (пер. с фр. Л.А. Торчинского). СПБ.: Алетейя; Ступени. 412 с
- Неретина С.С. 2002. Словарь средневековых терминов. -Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья). В 2 т. (под ред. С.С. Неретиной). СПб.: РХГИ. Т. 2. 635 с
- Ритцер Дж. 2002. Современные социологические теории. СПб.: Питер. 688 с
- Рорти Р. 2003. От религии через философию к литературе: путь западных интеллектуалов. -Вопросы философии. № 3. С. 30-41
- Уинч П. 1996. Идея социальной науки и ее отношение к философии. М.: Русское феноменологическое общество. 125 с
- Фома Аквинский. 2010. Сумма теологии. Часть II-I. Вопросы 90-114. Киев: Ника-Центр. 432 с
- Хоркхаймер М. 2011. Затмение разума. К критике инструментального разума. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация». 224 с