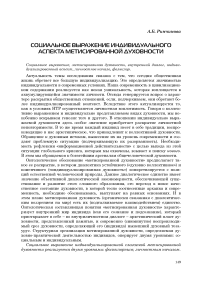Социальное выражение индивидуального аспекта метисированной духовности
Автор: Ринчинова Альбина Бургутовна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Философия и социология
Статья в выпуске: 2 (13), 2010 года.
Бесплатный доступ
Метисированная духовность в ее научно-философской онтологической представленности выводит к развертыванию социального содержания индивидуального аспекта в свете диалогической природы человеческого сознания, определяющего многоаспектность личностной воплотимости. Усиливая индивидуализацию социальным настроем, духовная метисация направляет личность к целеположенному самовыражению.
Социальное выражение, метисированная духовность, внутренний диалог, индивидуализированный аспект, личностное начало, фольклор
Короткий адрес: https://sciup.org/144153046
IDR: 144153046
Текст научной статьи Социальное выражение индивидуального аспекта метисированной духовности
Онтологическое обоснование «метисированной духовности» предполагает такое ее раскрытие, в котором диалектика устойчивого («духовно коллективное») и изменчивого («индивидуализированная духовность») конкретизируется с позиций естественной человеческой природы. Данное диалогическое единство имеет значение объективной диалектической закономерности, обеспечивающей существование и развитие этого сложного образования, его переход в новое качественное состояние духовности, в которой тесно соотнесенные архаика и современность, необходимо обосновываясь, выступают на равных основаниях. И в этом плане метисированная духовность (органически связанная с диалектическим воззрением на мир) есть их (подталкиваемое взаимодействием) единство. Онтологическая составляющая понятия «метисированная духовность» характеризует внутренний мир индивида (как его сознание и подсознание), который приоткрывает в себе – во внутриличностном диалоге – архетипический пласт духовности, представленный памятью, и современно (сиюминутно) воспроизводимый срез духовности, определяющий его (индивида) нынешний духовный тезаурус. Структурная организация метисированной духовности, определяемая духовно-практической деятельностью индивидов, оперирует двумя уровнями: социальным и индивидуальным.
Социальное выражение индивидуализированной слагаемой метисированной духовности реализуется двумя уровнями: фольклорным; личностным началом .
Фольклорный аспект реализации рационального компонента на уровне социального самовыражения способствует индивидуализации коллективной духовности. Миф же раскрывает коллективность индивида. В общинном начале мифодуховного пласта духовности русских сибиряков находим четко организованное индивидуальное начало. Мифодуховность сильна неизбывным законом сохранения нравственности, ее норм, понятий или представлений, своей интенсивностью, активностью и насыщенностью, фольклорными традициями. Фольклор мы понимаем как поворот от мифа в сторону рацио – самоопределения человека, индивидуализации его сознания в рамках коллективного . Русские мифы-былички, как и бурятские сказки, раскрывают коллективность индивида. Преодоление коллективного индивидуальностью происходит в мифах более близкого нам времени, когда герой более активен, осмеливается изменять порядок, создавать определенный Космос. Разрозненные рассказы законсервировались на уровне мифов-быличек. Примечательно то, что они оформлены диалогом, ведутся от первого лица, что свидетельствует о преодолении коллективного «Я» личностным в сознании индивида. Мир сказок и быличек – художественно организованное сосуществование и взаимодействие духовного многообразия. В их основе обнаруживаем мифонастрой сознания индивида – веру в языческие существа. Мы можем утверждать, что фольклор народов Сибири пробуждает в сознании человека индивидуальное активное начало. Хотя эпическая традиция живуча и консервативна, но в течение многовековой эволюции она претерпела изменения, подвергалась переосмыслению, дополнялась, обогащалась, привнося уже смысл разложения мифа, выхода на индивидуализацию . Так, коллективность сознания конкретного индивида раскрывается в мифодуховности, а индивидуальное выражение мифа находит воплощение в фольклоре. Таким образом, фольклорный уровень (как преодоление мифа индивидуальностью) есть вычленение индивидуального через коллективное, когда индивидуальная коллективность становится воплощением традиций. Это выступает предпосылкой осознания того, что происходит, и позволяет более адекватно рассматривать содержание исследуемой духовности как внутреннего мира индивида.
Анализ духовности индивида в горизонтально-вертикальном измерении позволил выявить личностный аспект индивидуального начала в структуре метиси-рованной духовности. Эта автономность рядового индивида становится реально осуществимой в личностном начале, т. е. единичное содержание всеобщего приобретает постоянное самостоятельное значение. Результатом индивидуализации духовного состояния является внутриличностное и социальное самовыражение этнического самосознания и подлинной человечности в социальном контексте, в раскрытии которого особую значимость приобретает для нас духовность первого бурятского ученого Доржи Банзарова, перерастающая рамки личной судьбы, в структуре которой онтологичность метисированной духовности находим в горизонтальном (ролевая реализация) и вертикальном (охватываем смысл, привносимый личностным началом) измерениях. Сущность личностного феномена Бан-зарова с наибольшей полнотой воплотилась в его целеположенной творческой научной деятельности при ведущей роли индивидуального начала на базе архаики, которая была актуализуема его современностью. Исследование в первой половине XIX в. Д. Банзаровым традиционной религии Центральной Азии – шаманизма как мировоззрения номада – позволяет нам рефлексировать явление его индивидуализированной духовности, вышедшей из бурятской архаики, как феномена метисации, преодолевшего индивидуальностью коллективное. Если шаман – это коллективное на индивидуальном уровне, которое присуще мифу, то сущность личностного ученого Банзарова раскрывается осмыслением исследуемого им феномена шаманизма, воплощающегося предметно в человеке, который несет коллективное содержание. Его исследование «Черная вера, или шаманство монголов» – это воплощенное рациональное начало – свидетельствует о причастности первооткрывателя к мифологии Центральной Азии, к архаической грани сибирского сознания [Банзаров, 1997]. Ученый, философ, личностным самовыражением был задан на рефлексию этого явления коллективной духовности номада, относительно которого характеризуется двойственной ролью. Руководствуясь рацио, он вскрывает вероисповедную духовность и при этом утверждает естественную сущность человека в природе (вслед за Фейербахом). Банза-ров, отвечая на духовные запросы социальной сферы обозрением, просвещением, т. е. причащением к глубинным истокам бытия человеческого духа, развертывает себя в социальном преломлении духовной метисации, помогая себе (индивиду) соотноситься с действительностью. Духовный мир просвещенного бурята «гелертера» обретает специфическую недифференцированность, предполагающую, что в малой частице бытия одновременно содержится целое. В его духовности сосуществуют различные грани миропонимания индивида, тяготеющего к мифологизации окружающего, ориентированного на собственные ценностные представления. Высший уровень личностного начала выводит на общее, типическое, универсальное, которое, в свою очередь, само породило в рамках коллективной духовности общинно выводимое индивидуальное. Именно этнические компоненты духовности выводят на высшие общечеловеческие ценности, которые определяют нашу жизнь, выступают категориями глобальной рефлексии, априори являясь принципами конкретного индивида, его переживания и осмысления. Так, социальный диалог в Сибири представителей различных этносов явил в XIX–XX вв. феномены Д. Банзарова, А.П. Щапова, В.П. Зиновьева, А.В. Вампилова, В.Г. Распутина, М.Д. Сергеева, Л. Гайдая, многих выходцев Земли сибирской [Банзаров, 1997; Вампилов, 1984; Распутин, 1983; Тороев, 1958; Щапов, 1937].
Достоинствами культурного пласта сибирской русской духовности мы во многом обязаны В.П. Зиновьеву, сумевшему сосредоточить нужное наследие былых времен, прорывающееся в современность. Приобщение нас к мифам-быличкам – это заслуга ученого-собирателя, носительство которого заключалось в этом причащении будущего к прошлому. Он на практическом поприще в труде «Забайкальские мифы-былички» содействовал переводу мифоархаики быличной в рационально направленное утверждение общечеловеческих ценностей в неповторимое самовыражение [Зиновьев, 1989]. В.П. Зиновьев посредством фольклора стремился к осмыслению актуальных нравственных проблем современной жизни. Ученый видел не только эстетическую, но и практическую его значимость в духовном обогащении людей. Поэтому несказочные прозаические жанры – бы-лички, бывальщины, предания, устные рассказы – были привлекательны для него. Они выводят на индивидуализацию в рамках мифологической духовности – в самой что ни на есть глубине души и жизни человека. В этом заключена их многогранность. Палитра архетипических категорий, соприродные воззрения, отношение к современным реалиям, удивительные сверхъестественные действа сил потусторонья и макромирная действительность – все это необыкно- венным образом переплелось в этих миниатюрах. В духовно-сознательном плане В.П. Зиновьев движется от коллективного к рационально-индивидуальному – научной деятельности. И социальность позволяет ему более глубоко раскрыть личностное начало в «носительстве», которое заключалось в том, что он был «родом отсюда» и знал огромный пласт мифодуховной русской культуры: песни, сказки, былички, устные рассказы, мастерски им исполнявшиеся, но прежде всего, главным образом, в архаическом мировосприятии, свойственном его пращурам, которые ощущали целостность, единство всего сущего, тождество частного и целого, причастность – «все во всем», соприродность.
Кинорежиссер Леонид Гайдай ближе к современности, модернизирован индивидуальной составляющей духовности, статус которой выступает воздействующим фактором на перспективы реализующейся метисированной духовности как способа реализации гармоничного субъект-субъектного основания и как всеохватно-открытой и постоянно совершенствующейся системы межличностных связей. Если его герои – это коллективное в индивидуальном преломлении, то их автор – индивидуально-личностное самовыражение на базе духовных ценностей, привнесенных традициями. В комедийном фильме «Иван Васильевич меняет профессию» современность и прошлое, представленные средневековьем Ивана Грозного, фокусируются одновременностью в метисированном сознании художника, уникально развернувшего его творческую неповторимость. Тот факт, что фильм воспринимается не одним поколением, соприкасающимся с данной киноклассикой, говорит об общечеловеческом духовном состоянии Гайдая, в котором человеку задан (а не дан) смысл – нечто неразрывно сопряженное с мыслью – страстно стремиться к чему-либо – структурировать мир. Смысл в свете человеческой неповторимости трогает, терзает и побуждает душу. То же, что есть, – всегда лишь условность, некая данность, которой можно овладеть и, овладев, применить ее. Множественность равноправных сознаний с их мирами разных времен сочетается у Гайдая здесь, сохраняя свою неслиянность. Мы полагаем, что социальное выражение индивидуальной составляющей метисированной духовности личности Л. Гайдая несет в себе смысл обнажения сути, стремления ввысь неудовлетворенного собой человека, раскрытия истинной его природы как человека и как личности.
Обращаясь к творчеству В.Г. Распутина, мы выявляем сквозной символ – архетип, изображение коллективной души как единства, в котором коллективная личность – это претворяющийся непрерывно изменяющийся соборный организм [Распутин, 1983]. Духовность Распутина раскрывается как развертывание внутренних событий в душе художника. Вызревание такого порядка естественности в творческом потенциале определяется тем, что его духовность задействована на современность и на архаику. Здесь нет строгого соподчинения и равновесия между ними. Распутин прорывается к архетипам современного поведения социального индивида. Он творчески раскрывает сибирский социальный тип личности. Герои его реализуют архаические пласты духовности в современном воплощении, выражающиеся в «игнорировании» рациовыраженности, верой озаренных, не от мира сего, образах святых, блаженных, которые и проигрывают – «образуют» местную социальную модель. Тонкие созерцания человека, зеркальность его души осуществляют гармонизацию индивидуального самовыражения. А колорит посю- и потусторонних миров сменяется их постижением автором, значит, и нами. В.Г. Распутин затрагивает проблемы вселенские, но он всегда воз- вращается к малой родине. Обращение к этнической архаике, без сомнения, играет значимую роль в его творчестве, в котором развернуты и воплощены темы семьи, дома, человека, смысла жизни, памяти. Возвращение к прошлому для нас становится целеположенностью. По-настоящему мы реализуем себя только в счастливом состоянии детства – прошлое, которое было идеальным – «мечтать никому не дано. Это не мечты, а воспоминания» [Распутин, 1983, с. 291], где реализация главного бытийного состояния человека происходит только в социальных условиях, т. е. философия жизни, мира рассматривается им в ракурсе осмысления архаики. Объектом художественного воплощения, отражением в языковом сознании В.Г. Распутин делает свое мировосприятие и понимание мира, отрешаясь от реальности, рефлексирует жизнь мироощущением блаженных и святых, в философском плане понимаемых, как несущих содержание мифа в блаженности или юродивости – необычном, с точки зрения здравого смысла, поведении. Эти образы воплощают социальное индивидуального.
Распутин духовно пробивается к Богу. Христианское православное мировоззрение – краеугольный камень В.Г. Распутина, – которое писатель не демонстрирует, свидетельствует о его причастности к вероисповедной грани сибирской духовности. В философии Распутина человек реально существует в формах «Я» и «другого». Осознавать человека мы можем безотносительно к этим формам его существования. В его литературе множественное «Я» – «Я» и «другой» – сочетается особым и неповторимым образом, «взаимоперетекая». И в этом трансцен-денте (замакрореалии) «Я» распадается на множество «Я» сознаний в потере себя . Раздвоенная в сознании личность «соборует» себя в «Я-единое»: «У каждого человека должен существовать где-то в мире двойник, чтобы по результатам двух одинаковых по виду и противоположных по своей сути людей, единый, мог решать, как ему быть дальше» [Распутин, 1983, с. 459], – цельность распадается на части, и наоборот, частями образует целое. Герой Распутина осознает себя и становится самим собою, только раскрывая себя для другого, через другого и с помощью другого. И только отношение к другому голосу – сознанию «ты» – определяет и конституирует самосознание. Существенно не то, что происходит внутри одного сознания, а то, что происходит на границе множеств сознаний одного или нескольких индивидов, на пороге реальностей – посю- и потусторонки, на границе мифодуховности и рацио. Герменевтическая методология, строящаяся на реализации субъектно-субъектных отношений, при анализе метисированной духовности позволяет выявить ее содержание. В этой напряженной взаимосвязи равноправных граней человеческой духовности мы видим ее сущность, воплощением которой выступает высшая степень внутренней социальности . Ибо само бытие человека – реализация себя в микромире и макромире – есть « глубочайшее общение». Так, метисированная духовность раскрывает внутреннее личностное – современное многоаспектное «Я» имманентной социальностью – взаимодействием сознаний. Герои Распутина близки по своим ощущениям природе. Она, сливаясь с ними, помогает им уйти «от самого ужасного наказания, когда ты не можешь быть один» (Ф.М. Достоевский) в современной цивилизации.
Александр Вампилов – этнический (природный) и духовный метис, озаренный духом творчества, обогащаемого байкальской бурятской мифодуховностью [Вампилов, 1984]. Его герои – Сарафанов («Старший сын»), старый эвенк («Прошлым летом в Чулимске») – это архетипические образы, блаженные, сильные своей нравственностью, ее чистотой – светлые, высокодуховные старцы. Архетипичность как исток вампиловского творчества, осуществившего прорыв духовности к ее началам, «испытывая» саморефлексией индивида (Зилов из «Утиной охоты» (1968)), направляет сознание нашего современника на выстраивание подлинной человечности. Духовные искания Вампилова высветили красоту и сложность его внутреннего мира через современную «рецепцию» мифа, реализуемого содержанием мети-сированной духовности. Цивилизационно настроенная современность сеет неуверенность в индивиде, тем самым подталкивая его к индивидуально репрезентируемой социальности (соборности в себе): он раскрывает красоту и сложность человеческой природы новым человеческим «Я» – множеством миров, продолжающих нас самих, увлекающих своей неизвестностью. А не развертывать или утрачивать многоаспектность своего «Я» – это значит нивелировать духовность человека. Драматург все это одухотворил словом языка, подаренного матерью. У Вампилова, так же как и у Распутина, слово встраивается в художественное произведение, обладая все той же свободой. Его образное слово может терять или, как и онимичес-кое, в значительной мере утрачивать свое понятийное значение, превращаясь во внесистемный знак – сигнал чувств и состояний автора. Художник слова создает его в расчете на адресата, ожидающего отклика и нуждающегося в интерпретации. Он уникально воплотился русским языком, величием, богатством и силой которого высвободил свою духовную неповторимость. Тем самым русским языком, которому мы сегодня не соответствуем в распутинском видении. Иначе не поднимались бы им столь высоко художественно проблемы языка, нравственности, традиций и т. д. Сближает же в целом духовность В. Распутина с духовностью А. Вампилова выкристаллизованность двух слагаемых метисированной духовности – мотивов традиций и современности.
Таким образом, социальное самовыражение индивидуального исследуемой метисированной духовности в практически-духовном развертывании реализуется фольклорным и личностным срезами, которые в единстве характеризуют специфику творчества применительно к индивиду.