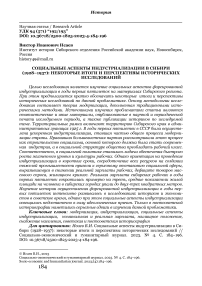Социальные аспекты индустриализации в Сибири (1928-1937): некоторые итоги и перспективы исторических исследований
Автор: Исаев В.И.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (30), 2023 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования является изучение социальных аспектов форсированной индустриализации в годы первых пятилеток на материалах Сибирского региона. При этом предполагается кратко обозначить некоторые итоги и перспективы исторических исследований по данной проблематике. Основу методологии исследования составляет теория модернизации, дополненная традиционными историческими методами. Источниками изучения проблематики статьи являются статистические и иные материалы, опубликованные в научной и периодической печати исследуемого периода, а также публикации историков по исследуемой теме. Территориальные рамки включают территорию Сибирского края в административных границах 1925 г. В годы первых пятилеток в СССР была осуществлена ускоренная индустриализация, ставшая частью общего процесса модернизации страны. Правившая большевистская партия рассматривала этот процесс как строительство социализма, основой которого должна была стать современная индустрия, а в социальной структуре общества преобладать рабочий класс. Соответственно, в социальной политике ставилась задача обеспечения быстрого роста жизненного уровня и культуры рабочих. Однако ориентация на проведение индустриализации в короткие сроки, сосредоточение всех ресурсов на создании тяжелой промышленности привели к серьезному отставанию социальной сферы, выразившемуся в снижении реальной зарплаты рабочих, дефиците товаров массового спроса, жилищном кризисе. Реальная зарплата сибирских рабочих в годы первых пятилеток сократилась примерно на треть, средние показатели жилой площади на человека в сибирских городах упали до двух-трех квадратных метров. Изучение истории осуществления форсированной индустриализации в годы первых пятилеток интенсивно развивалось в исследованиях историков и экономистов в советское время, однако при этом социальные аспекты индустриализации освещались недостаточно в силу идеологических причин. Только в постсоветской историографии наметились серьезные сдвиги в изучении данной проблематики.
Модернизация, индустриализация, социальные аспекты индустриализации, номинальная и реальная зарплата, жилищное положение, снабжение населения, советская и постсоветская историография
Короткий адрес: https://sciup.org/140302959
IDR: 140302959 | УДК: 94 | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-4-184-196
Текст научной статьи Социальные аспекты индустриализации в Сибири (1928-1937): некоторые итоги и перспективы исторических исследований
Введение. Ключевой задачей создания социалистического общества в России, проектируемого большевистской партией, вставшей в 1917 г. во главе государства, стала индустриализация страны. Сибирь в этих планах занимала особое место. Являясь аграрной малонаселен- ной окраиной страны, она, тем не менее, имела важное геостратегическое значение. Во-первых, как регион, отдаленный от предполагавшихся военных действий в случае нападения со стороны враждебных капиталистических стран Европы, Сибирь должна была сыграть роль тыло- вой территории, способной обеспечить воюющую армию и выживание Российского государства. Во-вторых, промышленное освоение региона должно было закрепить продвижение России в восточном направлении и обеспечить ее способность к сопротивлению в случае агрессии с Востока. В-третьих, задача освоения богатых запасов природных ресурсов Сибири, использования их в народном хозяйстве страны также требовала резкого роста промышленности в регионе.
В процессе индустриализации, помимо радикальных изменений в экономике, происходили существенные перемены в социальной сфере: менялась социальная структура населения, среда обитания человека; изменялся и сам человек, его образ жизни. Экономические преобразования в ходе индустриализации 1930-х гг. активно исследовались историками и экономистами практически с начала ее практического осуществления и вплоть до настоящего времени. Однако в течение долгого времени социальная сторона форсированной индустриализации исследовалась в меньшей степени, тому были определенные причины, которые мы рассмотрим ниже.
Цель исследования . Рассмотреть основные результаты форсированной индустриализации в социальной сфере на материалах Сибирского региона, а также кратко обозначить некоторые итоги и перспективы исторических исследований по данной проблематике.
Материалы и методы исследования . Основу методологии исследования составляет теория модернизации, рассматривающая переход от традиционного аграрного общества к индустриально-урбанистическому, дополненная традиционными методами исторического исследования.
Источниками изучения проблематики статьи являются статистические и иные материалы, опубликованные в научной и периодической печати исследуемого периода, а также публикации историков по исследуемой теме.
Хронологические рамки охватывают период первых довоенных пятилеток. Территориальные рамки включают территорию Сибирского края в административных границах на 1925 г., позднее разделенную на Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский края.
Результаты исследования и их обсуждение . В ходе индустриализации Сибири за годы первых пятилеток, благодаря самоотверженному труду советских людей, был создан колоссальный экономический потенциал. За 1928–1940 гг. выработка валовой продукции предприятий тяжелой индустрии Сибири возросла в 9 раз, в том числе черной металлургии – в 152 раза, металлообработки – 32, электроэнергетики – 30, строительных материалов – 17, добычи каменного угля – в 8 раз. Удельный вес отраслей, производящих средства производства, в промышленности Западной Сибири возрос с 1/3 в 1928 г. до 2/3 в 1937 г. В Красноярском крае доля предприятий тяжелой индустрии составила 65,7 %, в Иркутской области – 62 %.
Выполнение первых пятилетних планов позволило создать на востоке страны вторую топливнометаллургическую базу экономики СССР. При этом промышленность в Сибири развивалась более быстрыми темпами, чем в целом по стране. Если за первые две пятилетки валовая продукция крупной промышленности СССР выросла в 5 раз, то в Сибири – в 9 раз. В результате более быстрого развития Сибири ее удельный вес в промышленном производстве РСФСР неуклонно увеличивался. В общереспубликанской валовой продукции промышленности доля Сибири выросла с 2,7 % в 1913 г. до 5,1 % в 1937 г. [1, с. 732].
Для осуществления таких грандиозных преобразований необходимы были люди, способные по своим навыкам и квалификации успешно трудиться в промышленном производстве. Однако к началу первой пятилетки социальная база для проведения индустриализации в Сибири была довольно слабой: основная часть населения (по переписи 1926 г. около 87 %) проживала в сельской местности и, соответственно, не имела навыков индустриального труда. По данным Сибирской советской энциклопедии, в 1926 г. в сельском хозяйстве Западной Сибири было занято 90,2 % самодеятельного населения, то есть работающего, в Восточной Сибири – 81,5 % [2, с. 689]. Поэтому квалифицированные кадры для промышленности предстояло завозить из индустриальных центров европейской части России, а основную часть рабочих рекрутировать из сибирской деревни и обучать уже в ходе производства.
Сибирская деревня стала основным источником для формирования рабочего класса в Сибири. По данным профсоюзной статистики, на промышленных предприятиях Западной Сибири в 1930 г. в составе новых рабочих выходцы из крестьян составляли 80 %, в 1931 г. – 88, в 1932 г. – 85 %. В целом за годы первой пятилетки около 80% новых пополнений рабочего класса Сибири приходило из деревни. В годы второй пятилетки этот показатель несколько снизился (примерно до 60 %), но, тем не менее, деревня продолжала давать основную долю в пополнении рядов рабочего класса. Особенно высока была доля выходцев из села на стройках новых индустриальных гигантов. На строительстве Кузнецкого металлургического комбината доля крестьян в пополнении трудового коллектива достигала в эти годы 90 % [3, с. 86–87].
В общем пополнении населения городов Западной Сибири, прибывшем в течение 1926–1937 гг., мигранты из сельской местности составили 68,5 %. При этом доля выходцев из других несибирских территорий составила только около 20 %, в основном поток переселенцев шел из сибирских деревень [4, с. 95].
За годы форсированной индустриализации в Сибири существенно изменился социальный состав населения, быстро развивался рабочий класс, увеличилась прослойка служащих. При этом увеличение численности индустриального насе- ления в Сибири шло опережающими темпами. Только за годы первой пятилетки общая численность рабочих и служащих на предприятиях народнохозяйственного комплекса Сибири выросла почти в 7 раз, а в целом по стране – 2,6 раза. К концу второй пятилетки численность рабочих и служащих в Сибири достигла почти 2,5 млн человек [5, с. 233].
Одним из главных следствий форсированной индустриализации стало изменение социального облика человека и общества. Социальная структура населения Сибири за годы первых пятилеток кардиальным образом была перестроена. Сравнение данных Всесоюзных переписей населения в 1926 и 1939 гг. показывает, что за относительно короткий период произошли существенные перемены в составе населения Сибирского региона. Если в середине 1920-х гг. горожане составляли только 12,8 % населения Сибири, то к концу тридцатых годов ХХ века доля городского населения достигла 31,3 %. К началу Великой Отечественной войны городское население Сибири увеличилось еще более чем на полмиллиона и достигло 33,1 % в составе населения региона [6, с. 35].
В составе городского населения Сибири доля рабочих и служащих, то есть городских слоев, наиболее тесно связанных с индустриально-урбанистическими формами труда, возросла за эти годы с 54 до 92 %. При этом опережающими темпами росла доля рабочего класса: в 1939 г. она выросла до 62 %, более чем вдвое по сравнению с 27 % в 1926 г., в то время как доля служащих (около 30 %) почти не изменилась [5, с. 233].
Одним из важных социальных аспектов индустриализации стало активное вовлечение женщин в промышленное производство. Наряду с выявившейся нехваткой человеческих ресурсов города для обеспечения бурного роста промышленности вовлечение женщин в производство объяснялось и низкой зарплатой рабочих, которой зачастую не хватало для обеспечения семьи в случае занятости только мужчин. При этом женщинам приходилось отрабатывать не только на производстве, но и дополнительно «вторую смену» дома. По данным опросов рабочих, в 1931 г. на домашний труд рабочие-мужчины тратили 1,42 ч в день, а работающие женщины – 4,7 ч [7, с. 169].
В результате роста рабочих мест в сфере промышленности и целенаправленной работы государственных и общественных организаций по вовлечению женщин в промышленное производство доля работниц в составе трудовых коллективов предприятий крупной промышленности Западной Сибири возросла до 24 % в 1931 г., а в начале первой пятилетки она не достигала и 10 %. В целом в сфере промышленности СССР доля женщин в составе рабочего класса составляла в 1933 г. около одной трети [8, с. 19]. В составе рабочего класса Сибири за годы второй пятилетки доля женщин с 25 % в 1932 г. выросла до 30 % к 1937 г. [9, с. 48].
Несмотря на очевидные издержки этого процесса, прежде всего, повышенной трудовой нагрузки на женщину, которая продолжала нести основное бремя обязанностей в семье, в силу сохранения в основном традиционного распределения гендерных ролей, вовлечение женщин в промышленное производство в конечном счете соответствовало прогрессивным переменам в направлении эмансипации женщин и установлении равноправия полов.
Советские историки активно исследовали процесс формирования рабочего класса и изменений в социальной структуре общества, однако поставленные идеологические рамки ограничивали диапазон возможных вопросов и выводов [10, 11, 12]. На материалах Сибири эту проблему наиболее полно раскрыл А.С. Московский [13, 3].
В целом приходится сделать вывод, что в советской историографии рассмотрение социальных последствий индустриализации осуществлялось с идеоло- гизированных позиций "воспевания" роста рабочего класса как одного из главных достижений в строительстве социализма. При этом освещались, прежде всего, количественные параметры роста рабочего класса, а качественные характеристики в основном оставались вне поля зрения.
Неотъемлемой частью истории индустриализации Сибири в годы первых пятилеток является масштабное применение принудительного труда для строительства промышленных предприятий в неблагоприятных в климатическом отношении зонах, а также массовое его использование и на действовавших предприятиях, особенно в сфере неквалифицированного и тяжелого труда. Наряду с политико - экономическими аспектами этой проблемы очевидна и необходимость изучения ее в плане социальных последствий.
Система ГУЛАГа стала одним из важнейших инструментов промышленного освоения Сибири в 30-е гг. ХХ века. Лагеря и колонии Сибири и Дальнего Востока поглощали значительную часть осужденных по уголовным и политическим делам: в 1930-х гг. на их долю приходилось более трети всех заключенных в СССР.
В советское время эта тема была наглухо закрыта, а в постсоветской историографии данная проблема стала активно исследоваться. Достаточно полно на материалах Кузбасса эту тему исследовал Р.С. Бикметов [14].
Для понимания социальных аспектов индустриализации в СССР необходимо отметить существенные отличия ее советского варианта от того, как проходила индустриализация в странах, относившихся к первому эшелону модернизации. Там вначале ускоренными темпами развивалось производство потребительских товаров, а затем подтягивалось и тяжелая промышленность. Большевистская партия, руководствуясь марксистским тезисом о ведущей роли средств производства, сделала упор на опережающее развитие тяжелой индустрии.
Резкий перенос всех сил и ресурсов в создание тяжелой индустрии привел к кризису потребительского рынка и тотальному дефициту товаров массового потребления, значительному снижению уровня жизни не только городских слоев населения из рабочих и служащих, но всего населения СССР. При рассмотрении данной проблематики внимание исследователей обычно сосредоточено на таких вопросах, как заработная плата рабочих и служащих, жилищное положение городского населения, снабжение его товарами массового потребления, состояние коммунально-бытовой инфраструктуры городов и рабочих поселков.
Определенная работа по изучению таких вопросов уже проделана сибирскими историками. В опубликованных научных трудах констатируется, что за годы первой пятилетки номинальная заработная плата сибирских рабочих увеличилась почти вдвое. В 1932 г. зарплата рабочих в крупной промышленности Западной Сибири составила 194,9 % по отношению к 1928 г., в строительстве – 183,7, на транспорте – 203,9 %. Ускоренный рост номинальной заработной платы рабочих продолжался и в годы второй пятилетки. В 1932 г. среднемесячная зарплата рабочих Восточно-Сибирского края составляла 117,3 руб., а в 1934 г. уже 156,5 руб. В 1937 г. зарплата шахтеров Кузбасса достигла 286 руб., что составило 198,6 % по отношению к 1933 г. К концу второй пятилетки средняя зарплата рабочих составляла в среднем от 200 до 325 руб. в месяц.
Однако высокие темпы роста номинальной зарплаты рабочих не могли предотвратить снижение реального уровня жизни в эти годы. Быстрый рост цен, дефицит товаров массового спроса и необходимость их покупки на «черном» рынке приводили к снижению реальных доходов. По оценкам современных исследователей, реальная зарплата рабочих в годы первых пятилеток составляла в лучшем случае около 2/3 от уровня 1928 г. [15, с. 52–54].
О снижении уровня жизни в период форсированной индустриализации 1930-х гг. можно судить также по высокой доле затрат на питание в структуре семейных бюджетов. При благополучной ситуации доля этих затрат обычно варьируется в пределах до одной трети всех расходов. По данным обследований бюджетов рабочих и служащих Сибири, в годы первых пятилеток доля расходов на питание повысилась до половины и более всех расходов [15, с. 56–58].
Качество и уровень жизни городского населения Сибири в годы довоенных пятилеток определялись наряду с другими факторами наличием товаров и услуг, которые предлагались в системе государственной, кооперативной, частной торговли, а также на колхозном или стихийном «черном» рынке. С развертыванием индустриализации обострился дефицит товаров, что обусловило переход к их нормированному распределению. В 1929 г. для городского населения была введена карточная система приобретения дефицитных товаров, прежде всего, продуктов питания. В течение 1929–1930 гг. практически все виды товаров массового спроса стали распределяться по карточкам.
Советское государство проводило политику разделения людей на различные категории по уровню снабжения. Среди прикрепленных к системе снабжения проведена дифференциация по признакам участия в труде, его важности, членству в потребительской кооперации: в первую категорию включены рабочие – члены потребительской кооперации, во вторую – остальные рабочие, в третью – служащие-пайщики кооперации, в четвертую – иждивенцы, дети и все остальные. Позднее, с 1931 г., была введена система списков: люди включались в тот или иной список в зависимости от социальной принадлежности и важности предприятий, на которых они работали.
Снабжение крупных промышленных центров являлось приоритетным.
Кроме того, важные с точки зрения государства категории людей или отдельные стройки, регионы получали особый статус снабжения. Так, в Кузбасс в начале 1930-х гг. направлялось от 50 до 60 % продуктов питания, распределяемых в Западно-Сибирском крае [15, с. 68].
Установленные нормы снабжения на бумаге выглядели не так уж плохо: рабочему в 1931 г. по нормам Наркомата снабжения полагалось 800 г хлеба в день, 4,4 кг мяса в месяц, 2,5 кг рыбы, 400 г масла, 1 кг муки и 3 кг крупы, 10 штук яиц, 1,5 кг сахара [16, с. 23]. Однако в действительности эти нормы не соблюдались. Поступавших товаров, как правило, оказывалось недостаточно для всех, имевших карточки, поэтому ожидание в очередях, сокращение норм выдачи, просроченные и неотоваренные карточки стали постоянными спутниками нормированного снабжения. По данным опросов потребителей и по сведениям Наркомата снабжения, выдачи по карточкам обеспечивали лишь от трети до половины действительных потребностей. Все это, как и униженное положение покупателей, длинные очереди, грубость продавцов, делало покупку товаров одной из самых неприятных проблем городского быта в первой половине 1930-х годов.
Советские историки, воспевая успехи социалистической индустриализации, практически не упоминали о ее социальных издержках – снижении уровня жизни, остром жилищном кризисе, дефиците потребительских товаров, росте производственного травматизма и других негативных явлениях, ставших оборотной стороной быстрых темпов промышленного строительства. Поэтому упорно декларировался «неуклонный рост благосостояния» рабочих, но серьезных исследований этой проблемы не проводилось.
Подобная же ситуация существовала и в сибирской историографии. На завершающем этапе советской эпохи, когда стало возможным затрагивать и ранее закрытые проблемы, обобщающую кар тину быта рабочих Сибири попытался дать в своей монографии автор настоящей статьи [17]. В исследование наряду с материальными аспектами быта были включены и такие социальные аспекты индустриализации, как изменения модели устройства быта, формирование новой семьи и равноправных отношений между полами, внедрение и распространение форм потребления культуры в свободное время. Однако многие вопросы в силу специфики и недостаточности источников автору не удалось раскрыть в полной мере.
К настоящему времени изучение быта и материального положения рабочих Сибири в годы первых пятилеток далеко не завершено и нуждается в дальнейшем всестороннем изучении; целый ряд вопросов, как, например, динамика реальной зарплаты, структура семейных бюджетов и многие другие, исследованы очень слабо.
В постсоветское время прорывное значение на данном направлении исторических исследований приобрели работы московской исследовательницы Е.А. Осокиной, написанные в основном на материалах центральной части России. Ей удалось подробно показать проблемы дефицита товаров и услуг в годы первых пятилеток, организацию снабжения населения товарами массового спроса и устройство карточной системы и в итоге выявить тенденции серьезного ухудшения уровня жизни рабочих и служащих [18].
Одним из важнейших социальных аспектов индустриализации является ее влияние на жилищное положение населения. Особенно глубоким воздействие форсирования процессов индустриализации на жилищное положение рабочих оказалось в Сибири, так как строительство многих промышленных предприятий приходилось начинать на необжитых территориях при отсутствии подготовленной базы для расселения персонала. Ускоренный рост городского населения, обусловленный индустриализацией, при недостаточных масштабах жилищного строительства приводил к острому жилищному кризису в городах Сибири.
К началу развертывания индустриализации в Сибири обеспечение жильем городского населения уже выглядело плачевным, и оно было хуже, чем в центральной части страны. На одного жителя в городах Сибири приходилось в 1926 г. только 4,82 м2 жилой площади, в то время как в среднем по стране этот показатель составлял 5,86 м2.
В условиях форсированной индустриализации рост численности городского населения значительно опережал ввод нового жилья. Так, если жилая площадь городов Кузбасса за 1927–1930 гг. выросла в 2 раза, то численность населения – почти в 3 раза. В итоге на начало 1931 г. здесь в среднем приходилось лишь 2,4 м2 жилой площади на человека. Не лучше обстояло дело и в Восточной Сибири, где в индустриальных районах на человека приходилось 2–2,5 м2 жилья.
Особенно трудным оказалось жилищное положение рабочих на промышленных новостройках Сибири. Большинство строителей жили в бараках, землянках, палатках, шалашах. В бараках на строительстве «Сибкомбайна» в Новосибирске, например, в 1930 г. на одного человека приходилось менее 2 м2 жилья. В первые годы строительства Кузнецкого металлургического комбината 95 % рабочих жили в бараках и землянках. В 1932 г. в Новокузнецке на одного человека приходилось 1,27 м2 жилплощади, только 47,9 % рабочих были обеспечены хоть какой-то жилплощадью от предприятия, остальные проживали в частном секторе, близлежащих деревнях и т.п.
За годы первой пятилетки в условиях быстрого роста городского населения происходило постоянное снижение показателей обеспеченности жильем рабочих. В городах Западной Сибири на одного жителя в 1929 г. приходилось 4,2 м2 жилья, а в 1932 г. уже 3,6 м2. Во второй половине 1930-х гг. жилищный кризис в городах Сибири продолжал обостряться. Среднедушевая обес- печенность жильем в Сибири оставалась очень низкой. В 1937 г. в Новосибирске на одного жителя приходилось 3,2 м2 жилой площади, в Новокузнецке, Кемерово, Анжеро-Судженске – 3,1, в Красноярске – 2,8, в Ленинске-Кузнецком – 2,5 м2 [19, с. 62–81].
Проблемы жилищного положения рабочих и в целом городского населения освещались в советской историографии, однако реальной картины жилищного кризиса советские историки не могли показать, ограничиваясь статистикой жилищного строительства, выглядевшей вполне внушительно, если не обращать внимания на среднедушевые показатели обеспеченности жильем. В постсоветский период историографии историки уже смогли более объективно показать жилищное положение городского населения, не умалчивая о кризисных явлениях в этой сфере [19, 20].
Одним из важных социальных последствий индустриализации Сибири стало развитие инфраструктуры городов, создание сети коммунально-бытовых предприятий. В данной статье мы не будем рассматривать эти сюжеты, отметим только необходимость их исследования при изучении социальных аспектов индустриализации.
В настоящее время исследование социальных аспектов индустриализации довольно часто ведется историками, работающими в русле истории повседневности. Эти два направления вполне оправданно взаимно пересекаются и дополняются. Например, очень продуктивно работает по этой проблематике исследовательница из Магнитогорска Н.Н. Макарова. В ее научных трудах детальный анализ повседневности жителей Магнитогорска в годы первых пятилеток сочетается с глубокими теоретическими обобщениями [21]. Можно назвать и многих других исследователей, работающих на данном направлении (историографический анализ его потребует отдельного рассмотрения).
Если же говорить в целом об итогах и перспективах развития современной историографии социальных аспектов индустриализации, то можно констатировать определенные успехи и сдвиги в изучении отдельных проблем. Открытие источников и снятие идеологического пресса предоставило широкие возможности для более объективного исследования социальных аспектов форсированной индустриализации в СССР. Прежде всего, изучаются такие проблемы, как материальное положение рабочего класса, переселение крестьян в город и их адаптация к индустриальному производству, развитие социальной инфраструктуры городов, движение населения под воздействием радикальных сдвигов в экономике.
В последние десятилетия стало больше появляться работ, непосредственно нацеленных на изучение социальных аспектов индустриализации. Результаты исследований представлены в многочисленных статьях [22], выходят отдельные монографии по теме [23]. Защищена серия диссертаций, в которых социальные последствия индустриализации рассматриваются на материалах различных российских регионов [24].
Наряду с положительным в целом развитием историографии в этом направлении можно отметить, что значительная часть молодых исследователей ограничиваются при рассмотрении данной проблематики вопросами заработной платы, жилищного положения, снабжения в условиях карточной системы и дефицита потребительских товаров и другими сторонами материального быта рабочих и служащих. Эти наиболее обеспеченные источниковой базой темы хорошо вписываются в формат кандидатских диссертаций. Но за пределами такого рассмотрения остаются такие важные и более широкие социальные последствия индустриализации, как изменения социальной структуры общества, тенденции и способы перехода значительной части населения к индустриально-урбанистическому образу жизни. Не получает достаточного исследования наличие противоречий и нега- тивных явлений в позитивном в целом процессе перехода России от традиционно-аграрного общества к индустриальноурбанистическому.
Заключение . Процесс форсированной индустриализации в Сибири, развернувшийся в годы первых пятилеток, коренным образом изменил экономику и социальный облик населения региона. Доля промышленности в валом продукте народного хозяйства Сибирского региона за этот период удвоилась, возникли мощные гиганты индустрии. Социальные последствия индустриализации Сибири в годы довоенных пятилеток проявились в изменениях социального состава и образа жизни населения: резко выросла численность рабочих и служащих, более трети населения теперь было занято в отраслях индустриального труда.
Под влиянием индустриализации разворачивался процесс урбанизации региона: к началу сороковых годов ХХ века в Сибири более трети составляло городское население. Позитивные перемены происходили в развитии окружающей человека социальной среды: благоустраивались улицы городов, росли компоненты коммунально-бытовой инфраструктуры городов Сибири, создавались учреждения, бравшие на себя часть функций по обслуживанию быта.
В результате роста количества рабочих мест в промышленности и других отраслях народного хозяйства значительная часть женщин пополнила ряды рабочих и служащих, что способствовало процессу их эмансипации, формированию равноправных отношений полов.
В то же время форсирование процессов индустриализации, концентрация сил и средств на опережающем развитии промышленности в ущерб производству потребительских товаров и услуг приводили к существенным негативным последствиям в социальной сфере, в том числе к снижению уровня жизни населения, жилищному кризису и дефициту потребительских товаров.
Следствием стремления власти к ускоренному освоению природных ресурсов Сибири, в значительной части находящихся в необжитых, климатически экстремальных зонах, стало масштабное применение принудительного труда. Труд заключенных использовался и на многих промышленных новостройках, а также в профессиях тяжелого труда, прежде всего, в угольной и лесной промышленности.
В советской историографии социальные аспекты индустриализации не могли быть в полной мере исследованы в силу политико-идеологических ограничений. Историки рассматривали социальные изменения, происходившие под воздействием индустриализации, исключительно в позитивном плане. В постсоветский период открылись возможности для более объективного исследования данной темы. В качестве положительной тенденции в развитии отечественной историографии можно отметить, что в последние десятилетия наблюдается повышенный интерес исследователей к проблемам социальных аспектов индустриализации СССР в годы первых пятилеток.
Размышляя о позитивных и негативных итогах форсированной индустриализации Сибири в социальной сфере, нельзя не задаться вопросами: возможно ли было проведение модернизации в России без названных социальных издержек? Каковы были бы показатели развития страны без применения экс- тремальных средств и методов, использовавшихся правившей большевистской партией и Советским государством?
В настоящее время набирает силу мнение, что в условиях рыночной экономики, без сосредоточения всех ресурсов и средств производства в руках государства, без применения мобилизационных методов индустриализации достижение таких сдвигов в экономике, которые наблюдались в 1930-е гг., было бы просто невозможно. Думается, что эта точка зрения во многом объясняется стремлением некоторых историков приспособиться к политической конъюнктуре. Такая позиция осознанно или неосознанно обусловлена современной политикой выстраивания властной вертикали и ужесточения государственного воздействия на экономику.
О влиянии политической конъюнктуры на выводы историков заставляет задуматься и то обстоятельство, что относительно недавно была популярна другая точка зрения: если бы удалось избежать революции 1917 г., то продолжение капиталистической индустриализации страны, начавшейся после реформ Александра Второго и имевшей определенные успехи в начале ХХ века, могло бы дать либо такие же, либо еще лучшие результаты. Очевидно, что объективный ответ на эти вопросы неизбежно потребует дальнейшей серьезной работы историков и экономистов по исследованию процессов модернизации России в ХХ веке.
Список литературы Социальные аспекты индустриализации в Сибири (1928-1937): некоторые итоги и перспективы исторических исследований
- Историческая энциклопедия Сибири: в 3 т. Новосибирск: Историческое наследие Сибири, 2009. Т. 2. 808 с.
- Сибирская советская энциклопедия (ССЭ). М., 1932. Т. 3. 460 с.
- Московский А.С. Формирование и развитие рабочего класса Сибири в период строительства социализма. Новосибирск: Наука, 1968. 300 с.
- Население Западной Сибири в ХХ веке. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. 169 с.
- История рабочего класса Сибири. Рабочий класс Сибири в период строительства социализма. 1917-1937. Новосибирск, 1982. 425 с.
- Урбанизация советской Сибири. Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 1987. 224 с.
- Труд в СССР: стат. справ. М., 1932.
- Профсоюзная перепись 1932-1933 гг. М., 1934.
- Статистический справочник. М., 1936. № 4.
- Панфилова А.М. Формирование рабочего класса СССР в годы первой пятилетки. М.: Изд-во МГУ, 1964. 176 с.
- Вдовин А.И., Дробижев В.З. Рост рабочего класса СССР. 1917-1940 гг. М.: Мысль, 1976. 264 с.
- Шкаратан О.И. Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР (Ис-торико-социологическое исследование). М.: Мысль, 1970. 472 с.
- Московский А.С. Рост культурно-технического уровня рабочих Сибири. 19201937 гг. Новосибирск: Наука, 1979. 349 с.
- Бикметов Р.С. Использование спецконтингента в экономике Кузбасса (19291956). Кемерово: Кузбас. гос. техн. ун-т, 2009. 430 с.
- Исаев В.И. Коммуна или коммуналка. Изменения быта рабочих Сибири в годы индустриализации. Новосибирск: Наука, 1996. 172 с.
- Осокина ЕА. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского снабжения. 1928-1935. М.: Изд-во МГОУ, 1993. 144 с.
- Исаев В.И. Быт рабочих Сибири. 1926-1937 гг. Новосибирск: Наука, 1988. 241 с.
- Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». М.: РОССПЭН, 2008. 267 с.
- Букин С.С., Исаев В.И. Жилищная проблема в городах Сибири (1920-1960-е годы). Новосибирск: Параллель, 2009. 197 с.
- Меерович М.Г. Рождение и смерть жилищной кооперации. Жилищная политика в СССР 1924-1937 гг. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 2004. 272 с. Он же. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 1917-1937. М.: РОССПЭН, 2008. 300 с.
- Макарова Н.Н. «В котле индустриализации»: повседневная жизнь Магнитогорска (1929-1941). Магнитогорск: Дом печати, 2014. 432 с.; Она же. Магнитогорск как социокультурный проект советской власти в 1930-1950-е гг. Магнитогорск: Дом печати, 2021. 532 с.
- Коровин Н.Р. Особенности индустриализации России в 1930-е годы и их социальные последствия // Вестник Ивановского гос. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2008. Вып. 4. С. 33-42; Ким М.Ю., Кузоро К.А. Социальная политика советской власти в 1930-е годы в отечественной и зарубежной историографии // Вестник Томского гос. ун-та. 2010. № 5 (334). С. 64-67; Фадеев Л.А. Российская историография социальных аспектов советской индустриализации в годы первых пятилеток // Экономическая история. 2013. № 2. С. 56-62.
- Бадмаева Е.Н. Нижнее Поволжье: опыт и итоги реализации государственной политики в социально-экономической сфере (1921-1933 гг.). Элиста: НПП «Джангар», 2010. 544 с.; Грик Н.А. Советская экономическая политика в 19211933 гг. (критический анализ). Томск, 2002. 334 с.; Илюхов АА. Как платили большевики: политика советской власти в сфере оплаты труда. 1917-1941 гг. М.: РОССПЭН, 2010. 415 с.; Коровин Н.Р. Индустриализация СССР в 1930-е годы. Иваново, 2001. 91 с.
- Жилина И.В. Социальная политика Советского государства в 1930-е годы ХХ века: на материалах Среднего Поволжья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Пенза, 2005; Иминохоев А.М. История повседневности и динамика качества жизни городского населения Верхнеудинска/Улан-Удэ в 1920-1930-е гг.: автореф. дис. . канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2008; Ким М.Ю. Советская социальная политика в условиях индустриализации (1931-1941 гг.): на материалах Карагандинского угольного бассейна: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск. 2009; ЛеонтьеваЛА. Социальная политика Советского государства и ее реализация на Южном Урале (1934-1940 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2012; Семенова А.Ю. Социально-экономическое положение рабочих цензовой промышленности Вятской губернии/Куйбышевской области в 1928-1932 гг. Киров, 2012; Тюрин А.О. Социальная политика советской власти в 1928-1941 гг.: на материалах Нижнего Поволжья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Астрахань, 2003.