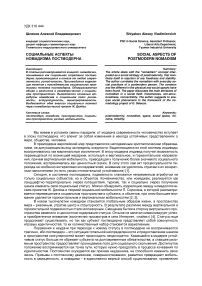Социальные аспекты номадизма постмодерна
Автор: Шляков Алексей Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 6, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается концепт «номадизм», понимаемый как социальная стратегия постмодерна, проявляющаяся в отказе от любой закрепленности, устойчивости. Производится корреляция понятия с повседневными социальными практиками человека постмодерна. Обнаруживаются общее и различное в геометрическом и социальном пространствах. Выявляются основные атрибуты номадизма в социальном поле: ризомность, аструктурность, ацентрированность. Выдвигается идея анализа социальных явлений через номадологический проект Ж. Делёза.
Постмодерн, номадизм, пространство, социальное пространство, ризома, мобильность
Короткий адрес: https://sciup.org/14938672
IDR: 14938672 | УДК: 316.444
Текст научной статьи Социальные аспекты номадизма постмодерна
Мы живем в условиях смены парадигм: от модерна современности человечество вступает в эпоху постмодерна, что влечет за собой изменения в некогда устойчивых представлениях о мире, обществе, человеке.
В премодерне европейский мир представлялся неподвижным кристаллическим образованием, не допускающим выход за пределы оседлости. Выделяющиеся из этой системы индивиды воспринимались как маргинальные исключения. В эпоху модерна индивид получил возможность перемещаться по возникшей иерархии, используя и вертикальное, и горизонтальное направления, причем вертикальная мобильность, приводящая к получению более значимого социального положения, воспринималась как ценностный скачок. В силу этого сам акт процессуальности перехода не особенно интересовал исследователей, внимание же уделялось стратам и их конкретным наполнениям (то есть узлам относительной устойчивости) [1].
Сегодня, в состоянии постмодерна, подвижность становится непременным атрибутом не только социальных субъектов, но и объектов. Кочевничество, или номадизм, реализуется как ландшафтно-территориально (через путешествия, туризм), так и социально (через получение шанса изменить свой социальный статус). Можно обнаружить корреляцию между номадологическим проектом Ж. Делёза и теорией социальной мобильности П. Сорокина, в которой рассматривается перемещение в социальном пространстве и субъекта, и объектов, при этом большее внимание уделяется горизонтальным и вертикальным мобильностям [2; 3] .
В новом тысячелетии номадизм становится глобальным образом жизни, а пространство мира - ризомным, утратив центр и структурность. В результате различие между вертикальной и горизонтальной подвижностью стало иллюзорным. Смещение бытия в сторону виртуального пространства изменило и ценностное содержание статуса. Отныне не капитал символизирует успех, а приобретенное внимание (количество просмотров в сети Интернет, «лайки») [4] . Статусы еще продолжают существовать, но так как субъект постмодерна представляет собой совокупность игровых идентичностей, то их количественный набор становится вариативным.
Поражения и неудачи при переходе к новому статусу в постмодерне не воспринимаются трагично, ибо постмодерн - это ситуация тотальной неопределенности и предоставление шансов в пространстве сингулярностей может происходить неоднократно. Казавшийся в модерне устойчивым статус больше не обрекает субъекта на долговременные обязательства, а ставшее ризо-мным пространство предоставляет проницаемое поле для социального скольжения. Достигнутое положение воспринимается как точка пути, которую нужно преодолеть в процессе кочевания по идентичностям. Постоянство осуждается как признак неудачника, не способного изменить свою жизнь. Призывы к постоянному движению, совершенствованию, развитию превращают мобильность в самоценность, а номадизм - в единственно верный способ существования, проявления которого разнообразны и могут происходить во времени и пространстве, в предметном и социальном полях, быть потенциальными и актуальными. Подобное разнообразие форм требует от исследователя комплексного подхода к изучению номадизма: с обращением и к философии, и к социологии, и к истории, и к лингвистике.
В 2000 г. британский социолог Дж. Урри провозгласил новую задачу социологии, которая отныне должна быть направлена на исследование различных мобильностей, особенно горизонтальных и сетевых [5] . Этот манифест, определяемый Дж. Урри как ««парадигма мобильностей», обозначил переход концептов «ризома» и «номадизм» из философского дискурса в социальное поле. Сама социология становится номадной, отказываясь от выделения при исследованиях статуарной структурности и упорядоченности объектов и обращаясь к самой процессуальности мобильностей. Номадизм становится неким «онтологическим абсолютом» [6, с. 76].
Все пространство города испещрено номадической ризомой (путепроводы, транспортные развязки), и она формирует ментальную карту постчеловека. Ризома воплощена и в системе канализации, трубопроводов, телефонных и радиолиниях; взаимодействуя с ними, постчеловек осуществляет свои повседневные практики. Номадизм, создавая новые культурные паттерны и хронотопические шкалы, влияет и на социально-политические изменения. Неподвижность и стремление к сохранению устойчивости подвергаются социальной эксклюзии. И если с позиции седентаризма любое движение рассматривалось как эксцесс, одномоментный исключительный акт, то сегодня, в рамках парадигмы постмодерна, номадизм с его бесконечным движением становится единственно значимой реальностью.
Номадизм меняет не только структуру пространства, но и общество в целом. По словам Н. Харламова, погружение в номадизм способствует высвобождению властвующих элит и превращению их в номадов-туристов, свободно передвигающихся вместе со своим капиталом по всему миру [7] . На наш взгляд, не только хозяева средств производства, но и низшие слои («информационный пролетариат») погружены в номадный образ жизни. Во-первых, наблюдаются охват новых территорий и удешевление сети Интернет, покрывающей самые дальние регионы, включая села и деревни, жители которых являются носителями «агротического сознания» (от греч. dYpoTeg - «селянин, сельский житель, живущий на земле»), оппозиционного номадическому, что позволяет практически любому субъекту осуществлять кочевничество по виртуальному пространству и переживать культурную сопричастность номадному образу жизни городских элит. Во-вторых, экономика постмодерна («третьей волны»), предлагая возможность мгновенного удовлетворения потребностей через систему кредитования, способствует приближению номадических паттернов к массам (кредит на путешествие, туристическую поездку, покупку автомобиля). В-третьих, всегда есть возможность совершать путешествия, не покидая кресла и глядя в телевизор, или, как писал Ж. Аттали, обратиться к различного рода алко-нарко-стимуляторам. «Наркотики -это кочевая субстанция для побежденных грядущего тысячелетия, отрешенных и отверженных. Они дают возможность для внутренней миграции, становятся чем-то вроде побега из того мира, который ничего им не предлагает» [8, с. 59].
П. Сорокин, исследуя мобильности, четко различал их воплощение в социальном и геометрическом пространствах: геометрическое пространство мыслится как универсум локализации физических феноменов, формирующийся вокруг позиций предметов, выступающих ориентирами, а социальное пространство возникает вокруг отношений между людьми [9] . Сегодня, в эпоху постмодерна, доступность коммуникативных возможностей в любой точке пространства и подвижность самих ориентиров сделали различие между социальным и геометрическим пространствами иллюзорным. Геометрическое расстояние перестало быть «далеким», ибо преодолевается за минимальное время. Социальный статус утрачивает значимость в условиях неопределенности и перехода к сетевому обществу. Понятия модерна «структура», «порядок», «организованность» уже не отражают существующей реальности глобализованного мира, что делает необходимым обращение к новым метафорам - «потоки», «сеть», «каналы» [10] . Движутся не только субъекты, но и объекты физического и виртуального миров, а также информация и капитал, приобретая тем самым свойства социального [10, с. 7].
Таким образом, новое номадическое общество постмодерна представляет собой некую гибридную систему, включающую множество сложных взаимосвязей между субъектом и местом, между двумя или более субъектами (что достигается использованием средств коммуникаций, побеждающих пространство), между точками пространства, а также взаимодействие с технологическими комплексами, формирующими номадность, подвижность социального. Гибридность достигается сочетанием предметности и мобильности, субъектов и предметов, технологий и производства топосов как социальных феноменов.
Ссылки:
-
1. Веселкова Н.В. Новые исследования мобильности: совпадающие и несовпадающие потоки, социальная компетентность // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. № 56, Т. XIV. С. 50–66.
-
2. Сорокин П. Социальная мобильность. М., 2005. 588 с.
-
3. Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения: Тысяча плато / пер. с фр. Я.И. Свирского. М., 2010. 895 с.
-
4. Бард А., Зодерквист Я. Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб., 2004. 252 с.
-
5. Урри Дж. Социология за пределами обществ. Виды мобильности для XXI столетия. М., 2012. 336 с.
-
6. Adey P. If Mobility is Everything Then it is Nothing: Towards a Relational Politics of (Im)mobilities // Mobilities. 2006. Vol. 1, № 1. P. 75–94.
-
7. Харламов Н. Пространство мобильного мира [Электронный ресурс] // Отечественные записки. 2012. № 5 (50). URL: http://www.strana-oz.ru/2012/5/prostranstvo-mobilnogo-mira (дата обращения: 06.06.2016).
-
8. Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. М., 1993. 70 с.
-
9. Сорокин П. Указ. соч.
-
10. Филиппов А.Ф. Парадоксальная мобильность // Отечественные записки. 2012. № 5 (50). С. 8–23.
-
11. Гаврилюк В.В. Специфика проблемы одиночества в современном российском обществе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2007. № 3. С. 5–10.
Список литературы Социальные аспекты номадизма постмодерна
- Веселкова Н.В. Новые исследования мобильности: совпадающие и несовпадающие потоки, социальная компетентность//Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. № 56, Т. XIV. С. 50-66.
- Сорокин П. Социальная мобильность. М., 2005. 588 с.
- Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения: Тысяча плато/пер. с фр. Я.И. Свирского. М., 2010. 895 с.
- Бард А., Зодерквист Я. Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб., 2004. 252 с.
- Урри Дж. Социология за пределами обществ. Виды мобильности для XXI столетия. М., 2012. 336 с.
- Adey P. If Mobility is Everything Then it is Nothing: Towards a Relational Politics of (Im)Mobilities//Mobilities. 2006. Vol. 1, № 1. P. 75-94.
- Харламов Н. Пространство мобильного мира //Отечественные записки. 2012. № 5 (50). URL: http://www.strana-oz.ru/2012/5/prostranstvo-mobilnogo-mira (дата обращения: 06.06.2016).
- Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. М., 1993. 70 с.
- Филиппов А.Ф. Парадоксальная мобильность//Отечественные записки. 2012. № 5 (50). С. 8-23.
- Гаврилюк В.В. Специфика проблемы одиночества в современном российском обществе//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2007. № 3. С. 5-10.