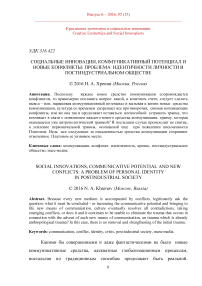Социальные инновации, коммуникативный потенциал и новые конфликты: проблема идентичности личности в постиндустриальном обществе
Автор: Хренов Николай Андреевич
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 2 (15), 2016 года.
Бесплатный доступ
Поскольку каждое новое средство коммуникации сопровождается конфликтом, то правомерно поставить вопрос: какой, в конечном счете, следует сделать вывод - или, наращивая коммуникативный потенциал и вызывая к жизни новые средства коммуникации, культура со временем разрешает все противоречия, снимая возникающие конфликты, или же она так и продолжает оставаться неспособной устранить травму, что возникает в связи с появлением каждого нового средства коммуникации, травму, которая оказывается уже антропологической травмой? В последнем случае происходит не снятие, а усиление первоначальной травмы, осознанной еще при появлении письменности Платоном. Ведь все следующие за письменностью средства коммуникации сохраняют отмеченное Платоном ее уязвимое место.
Коммуникация, конфликт, идентичность, кризис, постиндустриальное общество, масс-медиа
Короткий адрес: https://sciup.org/14239064
IDR: 14239064 | УДК: 316.422
Текст научной статьи Социальные инновации, коммуникативный потенциал и новые конфликты: проблема идентичности личности в постиндустриальном обществе
Какими бы совершенными и даже фантастическими не были новые коммуникативные средства, адекватные глобализационным процессам, ностальгия по традиционным способам продолжает быть реальной.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Появление каждого нового средства коммуникации демонстрирует вовсе не взрыв, как это фиксируют Маклюен и Луман, а введение комплекса массы, связанного с потребностью в безграничном росте, в некую регулятивную матрицу, учреждаемую с помощью электронных технологий. В ХХ веке с помощью таких технологий человечество перешло на новый уровень коммуникации. Оно преодолело взрыв, связанный с омассовлением культуры и, кажется, разрешило многие противоречия в функционировании коммуникации. Однако, несмотря на насыщение социума различными каналами коммуникации, ему так и не удается забыть самую элементарную или, как выражается Леви-Строс, подлинную коммуникацию, которая предполагает выходящую на демонстрацию массу.
Комплекс площади продолжает оставаться по-прежнему притягательным и не случайно. В случае с площадью мы имеем в виду не только выражение истинной коммуникации, но и одну из форм социальности. Ведь именно на площади, на которой собирается масса, к человеку возвращается первичное чувство социальности. Толпа на площади и есть самая архаическая, самая древняя и самая элементарная форма социума, противостоящая перманентному нарастанию в культуре эффекта отчуждения человека от человека. Идеалом коммуникации для современного человека по-прежнему остается то, что постиг еще Руссо: прелесть общения в малых сообществах, где каждый знает каждого, где каждый знает только часть истины, а сама истина вовсе не появляется извне уже готовой, а возникает в процессе коммуникации или диалога. Эта истина сегодня, когда мир глобализируется, о чем свидетельствует распространение мировой паутины, открывается и постигается заново. Когда религия уже не является эффективным регулятивным средством, а идеология имперского типа с сопровождающим ее монологизмом также приказала долго жить,
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations человечество может вернуться к тем кругам коммуникации, которые нередко ограничиваются локальными границами.
Иначе говоря, человечество стремится вернуть подлинное общение, возрождая традиционные ценности. Внимание к локальным и региональным способам коммуникации будет возрастать. Такое возрастание означает компенсацию исчезающих под воздействием глобализации традиционных средств коммуникации. Но ведь эта тенденция как раз в эпоху постиндустриального общества и является реальной. В качестве одной из обращающих на себя особенностей постиндустриального общества является, как свидетельствует Э. Тоффлер, выход за пределы массовидных образований, обязанных своим происхождением массовым коммуникациям и возвращение к реальным в контексте локальных культур традиционным способам коммуникации. Так, перечисляя признаки «третьей волны» или становления постиндустриального общества, Э. Тоффлер в качестве одного из таких признаков называет демассификацию медиа, т.е. ее возвращение к личности. «Вместо культурного доминирования нескольких средств массовой информации в цивилизации третьей волны – пишет он - начнут преобладать интерактивные, демассифицированные средства, обеспечивающие максимальное разнообразие и даже персональные информационные запросы» [5, с.560].
Так, опыт российских медиа в 1990-е годы, т.е. в период их ренессанса демонстрировал отход от массовых коммуникативных шаблонов в сторону индивидуализации контактов. Так, журналист из газеты «Коммерсант» А. Тимофеевский доказывает, что ориентация прежних изданий на определенные общности была перечеркнута. Газета «Коммерсант» обращалась не к общности, а к частному лицу («Его аудиторией стал отдельно взятый человек, частное лицо») [1, c.26]. Но соответствует ли такая
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations ориентация на частное лицо природе медиа? Может быть, речь идет лишь об ориентациях какой-то одной субкультуры, а не общества в целом. Конечно, общие ориентации первоначально должны сформироваться в какой-то одной нише, в границах одной субкультуры, а затем уже транслироваться в массу. Но что-то не похоже, чтобы это в наше время уже происходило. Разве что этот процесс развертывается в формах интернета. В самом деле, кажется, что в связи с возникновением и распространением интернета эта тенденция продолжает укрепляться и развиваться.
Однако все эти связанные со становлением постиндустриального типа общества, а, следовательно, и с изменениями в структуре и функционировании медиа сдвиги своим следствием имеют и видоизменение идентичности. Новая эпоха формирует новый тип личности. Если же касаться медиа, то здесь в первую очередь следует иметь в виду то, что обычно называют мозаичными структурами. Что, собственно, радует и вместе с тем пугает в функционировании интернета? Это то, что является продолжением уже успевшего проявиться в телевидении, а еще ранее в газете, что бросалось в глаза и казалось разрушительным в Х1Х веке. Но бросалась в глаза именно эта мозаичность. Проблема мозаичности связана с утратой структур восприятии и мышления, сформированных книгопечатанием. Распространяясь, книгопечатание начало заметно воздействовать на культуру. По сути, именно изобретение Гутенберга подвело итог многовековому процессу отхода от анонимности автора. Несмотря на привнесенные в культуру противоречия, печатная книга стала мощным средством индивидуализации в культуре с эпохи Ренессанса.
В данном случае вопрос о взаимоотношениях между коммуникацией и культурой повернулся своей позитивной стороной. Ведь печатная книга, способствуя индивидуализации, стала, кроме всего прочего, мощным
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations средством формирования и поддержания идентичности. Хотя идентичность для гуманитарной науки является новой проблемой, все же история медиа свидетельствует, что и до осознания актуальности этой проблемы, чему способствуют развертывающиеся процессы глобализации, медиа успешно формировали идентичность. В этом смысле весьма показательно такое средство медиа как печатная книга. Но в данном случае важно уяснить специфичность идентичности, формируемой с помощью печатной книги. Видимо, как можно предположить, эффект изобретения Гутенберга связан и с формированием особого образа человека. Не случайно Маклюен не обходит постановки вопроса, связанного со способностью печатного слова создавать особый тип человека. В связи с этим он обращает внимание на то, что Д. Джонс называет этот тип «алфавитно-мыслящим» [3, c.324].
Однако очевидно, что уже спустя столетие под воздействием электронных технологий эта идентичность начала разрушаться и формироваться какая-то новая идентичность. Изобретение Гутенберга продолжало отрывать личность от различного рода человеческих сообществ. Этого вопроса коснулся Н. Луман, когда фиксировал расширение сферы развлечения как именно сферы медийной, в том числе, в литературных формах, начиная с XVIII века, т.е. века бурного развития романа. «Роман как художественная форма и выводимые из этого формы художественного вымысла, повествующие об увлекательном развлечении, -пишет Н. Луман, - рассчитаны на индивидов, которые уже не вводят свою идентичность из своего происхождения, но формируют ее сами. Соответствующая открытая, опирающаяся на «внутренние» ценности и гарантии социализация берет свое начало, предположительно, среди буржуазных слоев в ХVIII столетии. Ныне она стала неизбежной. Всякий, едва родившись, обнаруживает себя в виде какого-то такого, кто еще только
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations должен определить свою индивидуальность или позволить ей определиться по правилам некоей игры, «в которой ни он, ни кто-либо другой от начала времен не знает ни правил, ни рисков, ни ставок». Тогда будет весьма соблазнительно испробовать виртуальные реальности на себе самом, - по меньшей мере, в воображении, которое можно остановить в любую минуту» [ 2, c.96].
Собственно, Н. Луман затрагивает весьма значимую тему формирования и поддержания идентичности человека с помощью романа, который с эпохи раннего модерна переживает расцвет и тиражируется в беспрецедентных количествах. Так, вызванная к жизни ХVIII веком страсть к чтению привела к тому, что с 1750 по 1800 годы число читателей удвоилось. За 10 лет с 1790 года по 1800 год на книжном рынке появилось 2 500 новых романов, т.е. ровно столько, сколько их появилось за пятьдесят предыдущих лет. Для сравнения приведем такие цифры: в 1750 году вышло 28 новых романов, а в 1800-м уже 375. К концу ХVIII века около 25 % населения можно было отнести к потенциально читающей публике [4, c.48]. Сравним эту статистику с тем, что представляла ситуация с функционированием книги в эпоху Гутенберга, печатавшего книги тиражом 150-200 экземпляров. Последователи его дела тиражи издаваемых книг довели до 250-300 экземпляров [6, c.55].. В конце ХV века тиражи поднялись уже до 1 000 экземпляров.
Описывая ситуацию переходности от второй волны к третьей, т.е. от индустриального общества к постиндустриальному обществу, Э. Тоффлер обращает внимание на то обстоятельство, что в этих процессах медиа тиражирует множество психологических типов, в том числе, «странных личностей, недоумков, чудаков и психов», чье антисоциальное поведение средства массовой коммуникации часто окружают романтическим ореолом.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Наша критика давно уже использует для констатации этого явления термин «чернуха». Когда Э. Тоффлер пытается в этих отклоняющихся типах разобраться, он логично переходит к проблематике идентичности. «Тем временем миллионы людей, – пишет он, - занимаются поисками своей идентичности или какого-то магического средства, которое помогло бы им вновь обрести свою личность, мгновенно дало бы ощущение близости или экстаза, привело бы их к более «высокому» состоянию сознания» [5, c.579]. Наблюдение Э. Тоффлера по поводу засилья типов с асоциальным поведением ассоциируется с методом деятельности репортеров газеты «Мегаполис-Экспресс», возникшей в период перестройки. Основатель газеты И. Дудинский признается, что журналисты из этой газеты искали убойные материалы в самых разных местах, в лежбищах бомжей, на свалках, бандитских притонах, моргах, кладбищах, венерических диспансерах, квартирах, населенных вельможами и колдунами [1, c.126]. Так в России рождалась бульварная пресса, способная, по признанию журналиста, «раскрепостить запуганного советской властью обывателя» [1, c.127]. Между прочим, в его признании есть и позитивный момент. Он признал: «В бульварной прессе я разглядел мощнейшее средство для воздействия на коллективное бессознательное» [1, c.127]. Это важно, однако, не только для бульварной, но и серьезной прессы. Однако из перечисленных антисоциальных типов новую идентичность не создать. Рано или поздно медиа в России оказывается перед необходимостью не только находить факты в тех местах и тех сферах, которые были при советской власти запретными, но и формировать новую идентичность, а здесь нужны были уже не только факты.
Из всех средств, наиболее эффективных в творчестве новых социальных ролей и идентификаций, у Э. Тоффлера первое место занимают
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations функционирующие в новых условиях медиа. В границах «третьей волны» в выборе идентичности возникает большая свобода. В контексте «второй волны» набор массово производимых образов ограничен («Относительно небольшое число издаваемых централизованно газет, журналов, радио, телепередач и фильмов обеспечивали то, что критики назвали «монолитным сознанием». Индивиды постоянно соотносили себя с незначительным набором ролевых моделей и оценивали свой образ жизни, сравнивая его с несколькими предпочитаемыми возможностями. Круг социально одобряемых стилей поведения личности был относительно узок» [5, c.614].
Иное дело - ситуация «третьей волны», когда имеет место демассификация средств массовой коммуникации, а, следовательно, и предлагаемое ими разнообразие моделей и стилей жизни. Они предполагают уже не ограниченный набор видов идентичности, а лишь мозаичные структуры. Свою идентичность потребитель медиа должен самостоятельно выстраивать из фрагментов этих предлагаемых медиа мозаик («Это гораздо труднее, и это объясняет, почему многие миллионы людей отчаянно ищут идентичность» [5, c.614]. Поскольку этот процесс не закончился и, более того, под воздействием постмодерна набирает силу, то наше знание о формировании идентичности нового типа является неполным, открытым. Единственное, что здесь можно отметить, так это то, что наш новый опыт совершенно не похож на опыт предшествующих поколений, идентичность которых формировалась в границах индустриальных или массовых обществ. «Мир, в котором мы быстро вступаем, - пишет Э. Тоффлер, - настолько далек от нашего прошлого опыта, что все психологические гипотезы выглядят сомнительно. Однако абсолютно ясно, что мощные силы совместно воздействуют на изменение социального характера – развитие определенных черт, подавление других и, таким
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations образом, изменение всех нас» [5, c.616]. Некоторые медиа претендуют не только на то, чтобы посягать на творение образа общества, но, скажем, на творение образа представителя какой-то социальной группы, скажем, группы успешных бизнесменов. Так, комментируя свой ролик, в котором был показан образ успешного бизнесмена, основатель газеты «Коммерсант» В. Яковлев признавался: «Это была первая попытка использовать не реальный образ читателя, а то, кем он хотел бы себя видеть» [1, c.13].
Иначе говоря, выражаясь языком Н. Лумана, в случае медиа мы имеем сконструированную реальность. Это в лучшем случае, поскольку мы пока, делая это заключение, исходим из интересов общества как самостоятельного по отношению к государству организма. Однако в отличие от общества, власти, контролирующей каналы медиа, также хочется в сознание людей внедрить тот образ государства, который ей кажется идеальным и совсем не означает, что он совпадает с этим образом, существующим в общественном сознании. Здесь возникает одна из самых серьезных проблем современности, связанная опять же с идентичностью человека. Она серьезна уже сама по себе, но поскольку, как утверждает Н. Луман, образ общества и мира формирует массмедиа, то они, как можно предположить, не могут не формировать и образ нас самих, т.е. нашу идентичность – и не только индивидуальную, но и коллективную.
Но если отдавать отчет в том, как в массмедиа конституируется реальность, то невозможно не поставить следующего вопроса: о чем в данном случае может идти речь – действительно ли об идентичности или о псевдоидентичности? Понятие «псевдоидентичность» употребляется Э. Эриксоном [7, c.573]. Эта проблема стала весьма острой в глобализирующемся мире, когда контакты между представителями разных культур стали более интенсивными, а часто они трансформировались в
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations миграцию и иммиграцию. Несомненно, она является острой и для России. Но острой эта проблема стала еще на стадии перехода от доиндустриальных обществ к индустриальным. Именно эту причину возникновения идентичности как проблему выдвигает и Э. Эриксон - психолог, который, собственно, и вызвал к жизни целое направление в психологии, а именно, психологию и социологию идентичности, причем, связал ее с установками индустриального общества. «Промышленная революция, глобальная коммуникация, стандартизация, централизация и механизация угрожают идентичностям, унаследованным человеком от примитивных, аграрных, феодальных и аристократических культур, – пишет он. То, что внутреннее равновесие этих культур позволяло предложить, сейчас подвергается опасности в огромных масштабах. Поскольку страх утратить идентичность доминирует в большей части нашей иррациональной мотивации, он призывает весь арсенал тревоги, оставленный в каждом человеке простым фактом его детства» [7, c.572].
Таким образом, если уж искать исходную точку возникновения острых, связанных с медиа современных проблем, то в истории они возникают в момент перехода от обществ доиндустриальных к индустриальным обществам как значимой странице в истории, причем, в истории не только общества, но культуры и цивилизации. Вместе с реальностью индустриального общества в мир приходит функциональное отношение к человеку. Процесс отчуждения человека от общества и от своей самости с этого времени приближается к своим наиболее крайним формам. Видимо, это обстоятельство позволяет не только мыслить апологетическую историю бурного развития медиа, но в этой истории улавливать обострение развертывающихся процессов отчуждения уже в форме медиа. Если считать, что медиа – это сама культура в ее актуальных формах или хотя бы
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations даже часть культуры, то для осмысления ее опыта, ее истории уместно прибегнуть к идее уже цитируемого нами Г. Зиммеля об отчуждении в самой культуре и в ее формах. В этом смысле медиа будет превосходной иллюстрацией этих процессов. Если рассматривать медиа в этой перспективе, то постмодернистскую трактовку идентичности как игры с собственными образами нередко приходится рассматривать именно как псевдоидентичности или симулякры. Единственным средством, позволяющим этого избегнуть, является исключающая симулякры культура.
Список литературы Социальные инновации, коммуникативный потенциал и новые конфликты: проблема идентичности личности в постиндустриальном обществе
- История русских медиа 1989-2011. -М.: Афиша, 2011
- Луман Н. Реальность массмедиа. -М.: Праксис, 2005
- Маклюен М. Понимание медиа: внешние расширения человека. -М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003
- Сафрански Р. Гофман. -М.: Издательский дом «Молодая гвардия», 2005
- Тоффлер Э. Третья волна. -М.: ООО "Фирма "Издательство ACT", 1999
- Функе Ф. Книговедение. Исторический обзор книжного дела. -М.: Высшая школа, 1982
- Эриксон Э. Детство и общество. -СПб.: Ленато, ACT, Фонд «Университетская книга», 1996