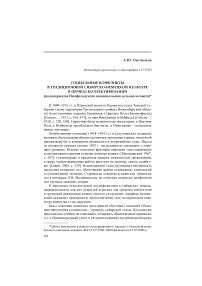Социальные конфликты в традиционной сибирско-немецкой культуре в период коллективизации (на материалах Нейфельдского национального сельского совета)
Автор: Охотников А.Ю.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIX, 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14522033
IDR: 14522033
Текст статьи Социальные конфликты в традиционной сибирско-немецкой культуре в период коллективизации (на материалах Нейфельдского национального сельского совета)
В 1909–1915 гг. в Юдинской волости Каинского уезда Томской губернии (ныне территория Чистоозерного района Новосибирской области) были основаны деревни Граничная и Цветное Поле (Блюменфельд) [Список…, 1911, с. 416–417], хутора Николаевка и Нейфельд [Список…, 1928, с. 328–330]. Граничная была менонитским поселением, в Цветном Поле и Нейфельде преобладали баптисты, в Николаевке – волынские немцы-лютеране.
Хозяйственная стагнация (1918–1924 гг.) в кулундинских немецких колониях была вызвана общим состоянием экономики страны, политикой продразверстки и взиманием продналога в неурожайные годы. Выход из затяжного кризиса осенью 1925 г. исследователи связывают с хорошим урожаем. Помимо погодных факторов повлияли «восстановление сельхозмашиностроения в стране и импорт машин» [Малиновский, 1967, с. 207], гуманитарная и кредитная помощь менонитских организаций, а также «самоотверженная работа крестьян по подъему своего хозяйства» [Савин, 2004, с. 129]. Немаловажной стала групповая сплоченность населения немецких сел, облегчавшая задачи кооперации, социальной и гуманитарной помощи. Старожилы северокулундинских немецких сел в интервью Л.В. Малиновскому не отмечали открытых конфликтов или шумных межевых споров.
К причинам относительной неконфликтности сибирских немцев, неприемлемости для них открытой агрессии как средства личностной и групповой реализации можно отнести следующие: аграрная колонизация целинных пространств; протестантский этос; исторический опыт сотрудничества с государством.
Опыт освоения целинных пространств обусловил основной объект противостояния колонистам – природу сибирской степи. Колонистам приходилось сообща заготавливать, содержать общественные промыслы и т.д. Индивидуальный успех в ситуации освоения экстремальной среды оценивался в категориях удачи, был примером крестьянской сноровки, но не поводом для зависти.
Гораздо более осознанными житейскими принципами были истины, обсуждаемые колонистами-протестантами на каждом молитвенном собрании и транслируемые в повседневную жизнь сибирско-немецкой деревни. Так, довольно сложно обнаружить «классовую», узко экономическую составляющую в найме батраков в 1920-е гг. в с. Цветное Поле. Хозяйства, содержащие «наемную силу», были маломощными, сильно уступали по масштабам деятельности, оснащению и товарности предприятиям образца 1917 г., работавшим на снабжение армии. Старожил Л.Г. Краус цитирует мнение брата – «крепкого крестьянина» Иккерта: «Когда была уборка, то Вильгельм нанимал себе парнишку, а то всегда говорил, что лучше сам сделает, чем человеку копейку платить» (ГАНО. Ф. Р-537. Оп. 1. Д. 1. Л. 19).
Договоры о найме за 1928 г. по с. Цветное Поле предусматривают проживание батрака с хозяевами, питание «тем, что сами кушаем», снабжение бельем и верхней одеждой по сезону («шуба, пимы, пиджак, сапоги»), стоимость которых сопоставима с десятимесячным денежным содержанием батрака (60–80 руб.) и гарантируют двухмесячное содержание по болезни (ГАНО. Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 378. Л. 3). В декабре 1930 г. бывшие цветнопольские батраки Бухмиллер, Шиц и Эйрих подали в местный избирком прошение о восстановлении в правах «лишенца» Людвига Рея, «так как тов. Рей… не держал Карла Шица как батрака, а взял его приемышем “в дети”». «Идеологически грамотный» бывший председатель колхоза И.Г. Эдель, описывая батрачество в рамках ленинской схемы, так воспроизводит неоднозначность явления: «Крепкие крестьяне имели возможность эксплоатировать бедноту, в плохие годы они заставляли бедных работать за хлеб и это называли еще “добротой”» (ГАНО. Ф. Р-537. Оп. 1. Д. 1. Л. 13).
В сибирско-немецкой деревне накануне коллективизации было развито кооперативное движение. «Лучшие люди» занимались освоением русской грамоты и основ новой светской культуры в кружках самообразования. Сибирские немцы вовсе не относились к числу последовательных противников советской власти: просто грамотные, бывалые люди предвосхитили содержимое коммунистических лозунгов и построили совершенные сельские коллективы под знаком евангельских ценностей.
Акцент на внутрипоселенные и внутриконфессиональные связи в сибирско-немецких колониях обусловлен и актуальным негативным опытом взаимоотношений с фискальными структурами советского государства – прежде всего продотрядами. А.И. Савин приводит высказывание секретаря немсекции при Алтайском губкоме РКП (б) И. Лигерера: «Продкампания совершенно наголову разбила немецких крестьян, т.к. они платили и при этом постоянно избивались и запирались в холодные амбары…» [Савин, 2004, с. 123]. Вместе с тем, именно взаимоотношения с государством длительное время определяли содержание российско-немецкой традиционной культуры. Навык диалога с властью не мог исчезнуть в одночасье, пусть даже под воздействием исключительно неблагоприятных обстоятельств.
Однако первыми реакциями на создание колхозов в сибирско-немецких деревнях были бойкот и попытка эмиграции. Миграционное движение сопровождалось массовыми распродажами имущества, актами луддизма: забоем скота, порчей нераспроданного инвентаря. В 1929 г. цветнопольцы ликвидировали сложный инвентарь, сломали и сдали в утиль маслобойки, молотилки и мельницы (ГАНО. Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 27. Л. 38). Миграционное движение было прекращено комплексом репрессивных и пропагандистских мер. Однако сибирские немцы оказались, пожалуй, наиболее эффективным оппонентом советской власти среди крестьян: их пассивное сопротивление оказалось замеченным за границей. Кампания неповиновения отсрочила раскулачивание «семей иностранных подданных тех стран, которые находятся в нормальных дипломатических отношениях с СССР», в дальнейшем высылка немецких кулаков в северные районы была запрещена [Спецпереселенцы…, 1996, с. 51].
Стремление выехать за границу было жестом отчаяния для крестьян, уже вложивших жизнь в освоение сибирских степей. Старожил Л.Г. Краус так воспроизводит семейное обсуждение темы эмиграции: «Брат хлопотал за нас всех, но мы не поехали – мой муж не захотел: “Здесь мы родились, здесь и останемся!”» – сказал он» (ГАНО. Ф. Р-537. Оп. 1. Д. 1. Л. 19). Орловский пресвитер Шиц предварил обращение к верующим, расцененное властями как «агитацию на выезд», на собрании 16 декабря 1929 г. следующими словами: «Если советская власть нас не восстановит в избирательных правах, то мы обязательно уедем в Америку, несмотря на то, что нам лучше хотелось бы жить на родине… Если бы нас не принуждали идти в колхозы, то мы бы не выезжали из России» (ГАНО. Ф. П-2. Оп. 2. Д. 470. Л. 231). Не только цензурируемое респондентом исследовательское интервью, но и процитированный фрагмент доноса не содержат признаков агрессии.
На протяжении первой половины 1930-х гг. жители д. Цветное Поле дружно подавали ходатайства за «лишенцев», подвергавшихся наибольшей эксплуатации (в колхоз их не принимали, ограничиваясь сезонным наймом). В персональных делах содержатся петиции, подписанные «всем обществом»: до 70 подписей (ГАНО. Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 94, 378, 475).
При этом нейфельдские немцы вовсе не были абсолютными приверженцами тезиса о непротивлении злу насилием. В случае посягательств на собственность (скот или общественное имущество со стороны частного лица) колонисты проявляли жесткость и даже жестокость. Так, к 1931 г. относится случай избиения пойманных «скотокрадов»-казахов всем цветнопольским «обществом» [Малышева, Познанский, 1999, с. 202].
Случай с колхозным счетоводом Бауэром свидетельствует не только о щепетильном отношении к собственности, но и о мстительности (вполне, впрочем, уместной) цветнопольских колонистов. Счетовод колхоза был обвинен в торговых сделках с беженцами-казахами, в то время как «члены артели страдали голодом». Чаша терпения односельчан переполнилась, когда администратор «даже нонешний год справил хату». Александру Бауэру припомнили эксплуатацию батраков «с раннего утра до позднего вечера» «за харчи». Сын «вновь выявленного кулака» комсомолец-избач Николай Бауэр обвинил односельчан в заговоре и фальсификации показаний работниками сельсовета. Вероятно, фабрикация дела действительно имела место, судя по квалифицированной подготовке обвинений: в райисполком были направлены даже показания о подкупе счетоводом свидетеля – бывшего батрака. Имущество Бауэров было конфисковано решением сельсовета, а сами они были вынуждены уехать из села (ГАНО. Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 27).
Социальный протест скверному житью в колхозах сибирские немцы выражали так же, как русские и украинские соседи: путем миграции. Пометки «выехал неизвестно куда» встречаются в половине дел ней-фельдских немцев, лишенных в 1929 г. «права голоса». Адрес выезда выявить было нетрудно: как правило, «лишенцы» выезжали на родину, либо в транзитные пункты столыпинской миграции, где еще оставались родственники. В частности, «сын помещика» И.Д. Фурман и «разваливший хозяйство» счетовод колхоза «Нацмен» А.Я. Бауэр оказались в немецких колхозах Омского округа (ГАНО. Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 27, 475). В автобиографии «лишенец» И.Ф. Шеффер писал: «Так как я остался ни с чем, то я вынужден был выехать с деревни в поисках пропитания. В первую очередь, я направился в Донскую область к своим родным» (ГАНО. Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 512. Л. 35).