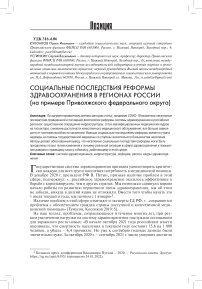Социальные последствия реформы здравоохранения в регионах России (на примере Приволжского федерального округа)
Автор: Куконков Павел Иванович, Устинкин Сергей Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Позиция
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
По аргументированному мнению авторов статьи, пандемия COVID-19 высветила негативные последствия проведенной в последние десятилетия реформы системы здравоохранения в российских регионах: существенное сокращение инфраструктуры, отток квалифицированных медицинских кадров из госсектора, снижение доступности качественного медицинского обслуживания, все больше зависящего от платежеспособности населения. Важным социальным последствием реформы является утрата надежды на помощь государственной медицины со стороны значительного большинства населения. Авторы делают обоснованный вывод, что негативные социальные последствия реформы могут быть преодолены только путем изменения к лучшему реальной ситуации в сфере здравоохранения и повышения доверия к правящему классу и бизнесу, работающему в этой сфере.
Система здравоохранения, инфраструктура, реформа, регион, кадры здравоохранения
Короткий адрес: https://sciup.org/170191624
IDR: 170191624 | УДК: 316.4.06 | DOI: 10.31171/vlast.v30i1.8769
Текст научной статьи Социальные последствия реформы здравоохранения в регионах России (на примере Приволжского федерального округа)
Г осударственная система здравоохранения призвана удовлетворять критически важную для всех групп населения потребность в медицинской помощи.
В декабре 2020 г. президент РФ В. Путин, признав наличие проблем в этой сфере, подчеркнул: «…российское здравоохранение оказалось эффективнее в борьбе с коронавирусом, чем в других странах. Мы немножко сдвинули вправо начало работы по развитию первичного звена здравоохранения, мы об этом не забыли, никуда в долгий ящик не отложили. Вместо того чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнем с 1 января»1.
Наличие проблем в этой сфере отмечают и эксперты ГД РФ: «…сохраняются проблемы с обеспечением граждан страны доступной и качественной медицинской помощью» [Тумусов, Косенков 2019: 5].
На наш взгляд, проблемы, сохраняющиеся в течение многих лет, при резком увеличении нагрузки на систему здравоохранения послужили основанием для взрывного роста новых: «В начале октября 2021 года российские власти оценивали, что смертность населения в текущем году составит 15,6 на 1 000 человек, а убыль – 6,4 промилле. Но уже к сентябрю годовые данные были значительно хуже. За октябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г. число умерших достигло
2,39 млн человек, или около 16,4 на 1 000 человек. С тех пор ситуация только ухудшилась»1.
Ситуация, сложившаяся в системе здравоохранения, болезненно воспринимается обществом, поскольку становится все более очевидно, что ущемление потребности массовых групп населения в медицинской помощи во многом объясняется стремлением части российского правящего класса и бизнеса, работающего в этой сфере, к достижению своих узких корпоративных целей.
Следует подчеркнуть, что в массовом сознании разрыв между ожиданиями и степенью удовлетворения потребностей персонифицируется в образах социальных групп, занимающих полярные позиции по отношению к власти и собственности. Весьма симптоматично, что в процессе осознания этого разрыва все реже используется такой критерий, как авторитет, практически не работающий в условиях тотального взаимного недоверия в современном российском обществе.
Пандемия COVID -19 актуализировала и обострила дискуссии вокруг социальных последствий реформирования российской системы здравоохранения в течение двух последних десятилетий. Пандемия, выступающая в качестве «момента истины» для процесса реформирования российского здравоохранения, наряду с эпидемиологическими, все более жестко ставит социальные проблемы.
Мы разделяем подход, в соответствии с которым «пандемия коронавируса – не столько медицинская и эпидемиологическая проблема, сколько социальная и даже социологическая, так как столь глобальные и уникальные общественные потрясения не могут не вызвать далеко (и глубоко) идущих социальных последствий, столь масштабных, что впору говорить об особом направлении исследований под названием “Социология пандемии”» [Социология пандемии 2021: 4].
Эксперты отмечают важнейшее следствие реформы: «В последнее время рост доли платных медицинских услуг практически свидетельствует о том, что государство устранилось из области контроля расходов граждан на медицинское обслуживание» [Тумусов, Косенков 2019: 77]. Также отмечается важная особенность современной пандемии: «В ходе пандемий прошлых эпох бизнес-сообщество задавалось вопросом: “Как быстро прекратить пандемию и не нести убытков?” Нынешняя борьба с эпидемией ведется по принципу: “Что надо сделать, чтобы заработать на этой эпидемии?”»2
Ситуация существенно осложняется обилием противоречивой информации о пандемии из источников, не пользующихся доверием общества или его утративших, и не дающей адекватного представления о масштабах реальной угрозы. Захлебнувшееся в потоках избыточной информации «абсолютное большинство россиян заявляет о достаточности информации относительно ситуации с коронавирусом в мире, а также путях его передачи и методах профилактики (86%)»3. Вместе с тем накапливание противоречивой информации об этом явлении в ситуации длящейся неопределенности неизбежно порождает самые разные формы реакции, такие как «истерия, крайнее возбуждение, враждебность и насилие, поиск “козла отпущения”, надежда на лучший исход» [Смелзер 1994: 87].
Следует подчеркнуть, что в актуальном информационном пространстве явно недостает данных, не только вызывающих доверие, но и позволяющих описывать и анализировать состояние и динамику ситуации в сфере здравоохранения. В качестве источников, позволяющих это сделать, мы рассматриваем данные статистики и социологии, использование которых предполагает тщательный учет их специфики.
Преимуществом данных государственной статистики, на наш взгляд, является то, что они позволяют анализировать и сравнивать состояние здравоохранения в динамике по регионам России. В частности, для осмысления сложившейся ситуации принципиально важен подход Росстата к выделению групп смертей лиц с диагностированным COVID -191:
– COVID -19 как основная причина смерти. В ноябре 2021 г. зафиксировано 71 187 таких случаев;
-
– COVID- 19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в ноябре – 8 939;
-
– COVID -19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. Таких случаев в ноябре 2021 г. – 1 477;
-
– COVID -19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. В ноябре зафиксировано 5 924 таких случая.
На наш взгляд, данные статистики могут выступить в качестве основания генерализации массива данных о ситуации в сфере здравоохранения.
Существенный вклад в осмысление быстро меняющейся ситуации в этой сфере также может внести социология. Так, Д. Плейерс выделяет четыре направления социологического исследования пандемии [Pleyers 2020: 4].
Во-первых, это анализ социального измерения пандемии. Пандемия усиливает социальное неравенство и обнажает социально-структурные характеристики общества. Некоторые группы оказываются затронутыми пандемией больше, чем другие.
Во-вторых, область интереса социологов – мониторинг мер, принимаемых правительствами, и анализ того, как пандемия обнаруживает недостатки существующих политических режимов.
В-третьих, это анализ влияния пандемии на людей и общество, на изменение образа жизни, реконфигурацию социальных отношений, возникновение новых форм солидарности.
В-четвертых, это рефлексия по поводу долгосрочных последствий пандемии.
Исследования ВЦИОМа показывают, что в сфере здравоохранения страны складывается весьма тревожная ситуация: «49% россиян считают, что российская система здравоохранения не справляется с высокой нагрузкой в условиях пандемии коронавируса»2. Таким образом, половина населения России ставит под сомнение эффективность реформированной системы здравоохранения.
Анализ социального измерения пандемии, осуществленный в ходе исследования газеты «Ведомости» на основании таких источников, как Росстат и Минздрав, позволяет проследить динамику заболеваемости и летальности в России с 1990 по 2019 г.: «рост числа заболевших (на 20%), заболевших на 1 врача (на 30%), начиная с 2000 года летальность увеличилась с 1,4% до 2%. Смертность населения трудоспособного возраста без внешних причин на 10 000 населения увеличилась с 32 в 1990 году до 37 в 2019 году»1.
Анализ существенных недостатков в деятельности российской власти по реформированию здравоохранения представлен в работе одного из авторов российско-американского проекта «Реформа здравоохранения Российской Федерации»: «В 1993 г. начался новый этап реформы, связанный с переходом на систему обязательного медицинского страхования. В ходе этого процесса активно утверждаются экономические методы управления. Важно также подчеркнуть, что оказались утраченными некоторые позитивные характеристики прежней системы управления и финансирования. Например, органы управления по существу отказались от главного элемента любой системы управления – стратегического и текущего планирования» [Шейман 1998: 7].
Мониторинг мер, принимаемых правительством, свидетельствует о том, что даже во время пандемии правительство стремится переложить на население значительную часть финансовой нагрузки: «Финансирование здравоохранения осуществляется за счет бюджета, ОМС (3,5% ВВП), а также за счет частного финансирования – ДМС, платные услуги (2,5% ВВП). По данному показателю Россия занимает 65-е место в мире, уступая многим странам. Например, в 2018 г. расходы на медицину в США составляли 14,3% ВВП, в Германии – 9,5%, в Польше – 4,5% »2.
Изменения в системе здравоохранения России неизбежно отразились на состоянии здоровья населения. Анализ данных статистики свидетельствует о неуклонном снижении оценки состояния здоровья после 45 лет3. Этот факт объясняется прежде всего возрастом, с другой стороны, он свидетельствует о недостаточном качестве и доступности все более ощущаемой с возрастом необходимости медицинской помощи.
По данным ВЦИОМа, «в случае возникновения заболеваний 46% опрошенных сегодня, как и четыре года назад, обращаются в государственную поликлинику, еще треть (33%) занимаются самолечением. А каждый шестой (15%) идет в платное медучреждение, хотя два года назад в платную поликлинику обращался каждый десятый (11%). Остальные либо пускают все на самотек, либо прибегают к помощи целителей (4% и 1% соответственно)4.
Таким образом, важным следствием реформирования здравоохранения является утрата большинством россиян надежды на помощь государственной медицины. Представляется достаточно убедительным вывод, что такой результат изначально рассматривался авторами реформы как ее цель.
Снижение качества и доступности медицинской помощи объясняется прежде всего сокращением численности врачей и медперсонала. По данным, представленным в газете «Ведомости», «за период с 1990 года по 2019 год в госсекторе России на 50 тысяч уменьшилось число врачей, на 219 тысяч – числен- ность среднего медперсонала, на 334 тысячи – численность младшего медперсонала, число коек за этот период сократилось на 914 тысяч»1.
Следует подчеркнуть, что процессы «оптимизации» здравоохранения в начале нулевых годов затронули даже службу скорой медицинской помощи: если с 1970 по 2001 г. число станций (отделений) скорой медицинской помощи стабильно увеличивалось, то с 2001 по 2020 г. наблюдается их обвальное сокращение. Начиная с 2001 г. существенно сокращается и число лиц, которым оказана такая помощь2.
По данным исследования Центра политики в сфере здравоохранения ВШЭ, в 2021 г. 44% граждан заявили о случаях недовольства результатами медицинской помощи, что на 10% выше показателей прошлого года. На втором месте – долгое ожидание очереди в поликлинике (43%), на третьем – трудности с записью на прием (42%). Более половины из 6 тыс. медработников, опрошенных в 2021 г. НИУ ВШЭ, охарактеризовали состояние отечественного здравоохранения как критическое3.
Преимущественное внимание СМИ к ситуации в системе здравоохранения столичных городов и мегаполисов создает впечатление об относительном благополучии в регионах России. Данные статистики свидетельствуют о том, что такой вывод не соответствует действительности. Оценка состояния своего здоровья населением Приволжского федерального округа (ПФО) представлена в табл. 1.
По данным, представленным в табл. 1, меньше половины населения ПФО (48,1%) оценивают состояние своего здоровья как хорошее и очень хорошее. Следует отметить, что этот показатель ниже, чем по России в целом (50,5%). Сравнительно более высокая доля населения, оценивающего состояние своего здоровья как плохое и очень плохое, зафиксирована в Марий Эл (16,7%), Кировской (11,5), Пензенской (11,6%) обл. и Мордовии (10,2%). Гораздо меньше таких оценок в Удмуртии (4%), Татарстане (5,6%), Ульяновской обл. (4,9%).
Неблагополучие в сфере регионального здравоохранения отражается на процессе естественного движения населения в субъектах ПФО (см. табл. 2).
Обращает на себя внимание то, что за два последних года во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского, зафиксирован рост убыли населения. В ПФО убыль населения нарастала во всех без исключения субъектах, причем наиболее заметная убыль наблюдалась в Мордовии, Нижегородской и Саратовской обл. (см. табл. 2, ст. 4, 5).
Можно предположить, что убыль населения связана с изменениями в системе здравоохранения, которые произошли в ходе реформы. Это предположение подтверждается данными статистики, позволяющими проследить динамику изменения инфраструктуры в этой сфере (см. табл. 3).
В ходе «оптимизации» произошло сокращение практически всей инфраструктуры здравоохранения в ПФО. Более чем наполовину сократилось число больниц (54,9%), особенно большие сокращения произошли в Пермском крае (66,5%), Ба шкортостане (65,2%), Кировской (63,7%), Оренбургской (60,9%),
Таблица 1
|
о е к 3 © S ф Рн |
ф ф а о. ф X ф О |
ф ф а © о. й |
ф ф 09 Ф £ |
ф X К |
ф X О |
ф ф S К |
|
РФ |
7,1 |
43,4 |
41,0 |
7,6 |
0,8 |
8,4 |
|
ПФО |
6,2 |
41,9 |
43,5 |
7,5 |
0,8 |
8,3 |
|
республики ПФО |
||||||
|
Башкортостан |
6,3 |
41,4 |
42,6 |
8,1 |
1,4 |
9,5 |
|
Марий Эл |
1,9 |
28,0 |
51,2 |
15,4 |
1,3 |
16,7 |
|
Мордовия |
4,7 |
36,2 |
48,7 |
9,9 |
0,3 |
10,2 |
|
Татарстан |
6,5 |
52,4 |
35,5 |
5,4 |
0,2 |
5,6 |
|
Удмуртия |
1,2 |
49,3 |
45,5 |
3,8 |
0,2 |
4,0 |
|
Чувашия |
4,6 |
42,0 |
46,1 |
7,2 |
0,1 |
7,3 |
|
Пермский край |
5,7 |
42,2 |
42,9 |
7,8 |
1,3 |
9,1 |
|
области ПФО |
||||||
|
Кировская |
3,4 |
35,4 |
49,6 |
10,4 |
1,2 |
11,6 |
|
Нижегородская |
9,8 |
42,5 |
39,5 |
7,5 |
0,7 |
8,2 |
|
Оренбургская |
6,2 |
43,7 |
42,4 |
6,9 |
0,8 |
7,7 |
|
Пензенская |
6,1 |
30,8 |
51,2 |
9,8 |
1,8 |
11,6 |
|
Самарская |
6,9 |
36,7 |
47,6 |
8,3 |
0,5 |
8,8 |
|
Саратовская |
5,8 |
37,6 |
48,4 |
7,5 |
0,7 |
8,2 |
|
Ульяновская |
7,9 |
50,1 |
37,1 |
4,3 |
0,6 |
4,9 |
Оценка населением ПФО состояния своего здоровья *
* Выборочное наблюдение состояния здоровья населения. 2021 год. – Федеральная служба государственной статистики. Доступ: PublishSite_2021/ (проверено 20.01.2022).
Пензенской (60,4%) обл. В ПФО на треть (33,4%) сократилось число больничных коек, в Кировской обл. – более чем наполовину (53,8%). Процессы «оптимизации» в ПФО меньше затронули фельдшерско-акушерские пункты и амбулаторно-поликлинические организации, однако это явно не компенсирует значительных потерь инфраструктуры здравоохранения.
Таблица 2
|
Округа, регионы |
Умерших |
Естественный прирост, убыль (–) |
||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
|
РФ |
257 292 |
219 872 |
–142 315 |
–106 954 |
|
ПФО |
55 523 |
49 074 |
–34 103 |
–27 614 |
|
республики ПФО |
||||
|
Башкортостан |
6 629 |
6 432 |
–3 354 |
–3 318 |
|
Марий Эл |
1 200 |
1 006 |
–686 |
–451 |
|
Мордовия |
1 659 |
1 090 |
–1 274 |
–660 |
|
Татарстан |
6 237 |
5 848 |
–2 763 |
–2 266 |
|
Удмуртия |
2 380 |
2 075 |
–1 124 |
–873 |
|
Чувашия |
1 911 |
1 763 |
–1 098 |
–907 |
|
Пермский край |
4 490 |
4 497 |
–2 420 |
–2 384 |
|
области ПФО |
||||
|
Кировская |
2 490 |
2 399 |
–1 662 |
–1 513 |
|
Нижегородская |
6 529 |
5 712 |
–4 302 |
–3 463 |
|
Оренбургская |
3 810 |
3 737 |
–2 385 |
–2 232 |
|
Пензенская |
2 730 |
2 187 |
–1 974 |
–1 485 |
|
Самарская |
6 310 |
6 009 |
–4 148 |
–3 869 |
|
Саратовская |
6 410 |
4 228 |
–4 987 |
–2 836 |
|
Ульяновская |
2 738 |
2 091 |
–1 926 |
–1 357 |
Естественное движение населения в субъектах ПФО*
Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской федерации за ноябрь 2021 года. – Федеральная служба государственной статистики. Доступ: storage/mediabank/ (проверено 16.01.2022).
По мнению главы Всероссийской лиги пациентов А. Саверского, реформа системы здравоохранения стартовала неправильно: «хотели, как на Западе, чтобы коек было мало, а главным стало амбулаторное звено. Но начали совсем не с того конца: сперва нужно было развить амбулаторный блок, а уже потом сокращать койки. Неумелые действия по оптимизации привели к тому, что у нас вырос частный сектор, и продолжает расти. Мы убили бесплатную медицину»1.
Необходимо отметить, что решение назревших проблем в сфере здравоохранения нередко подменяется так называемым адресным подходом, в процессе
Таблица 3
|
Число больничных организаций, 2020 г. в % к 2004 г. |
Число амбулаторнополиклинических организаций, 2020 г. в % к 2004 г. |
Число фельдшерско-акушерских пунктов, 2020 г. в % к 2011 г. |
Число больничных коек, 2020 г. в % к 2004 г. |
|
|
РФ |
51,4 |
103,6 |
95,9 |
74,3 |
|
ПФО |
45,1 |
100,3 |
97,8 |
66,4 |
|
республики ПФО |
||||
|
Башкортостан |
34,8 |
41,9 |
98,6 |
75,4 |
|
Марий Эл |
49,1 |
143,5 |
87,1 |
60,9 |
|
Мордовия |
45,7 |
86,1 |
99,8 |
53,9 |
|
Татарстан |
46,4 |
149,7 |
95,6 |
60,6 |
|
Удмуртия |
45,3 |
150,0 |
93,1 |
56,4 |
|
Чувашия |
49,0 |
107,4 |
105,0 |
68,7 |
|
Пермский край |
33,5 |
131,5 |
105,9 |
57,3 |
|
области ПФО |
||||
|
Кировская |
36,3 |
82,8 |
79,0 |
46,2 |
|
Нижегородская |
48,1 |
108,4 |
98,2 |
70,8 |
|
Оренбургская |
39,1 |
92,7 |
90,3 |
54,8 |
|
Пензенская |
39,6 |
99,5 |
54,8 |
69,9 |
|
Самарская |
90,9 |
116,6 |
121,2 |
84,1 |
|
Саратовская |
52,8 |
78,3 |
93,2 |
83,3 |
|
Ульяновская |
55,0 |
58,2 |
669,4 |
75,2 |
Изменение инфраструктуры здравоохранения ПФО в 2004–2020 гг.*
* Здравоохранение. – Федеральная служба государственной статистики. Доступ: (проверено 15.01.2022).
реализации которого фактически отсекается значительная часть населения, нуждающегося в их разрешении. Последствия такого подхода особенно разрушительно проявляются в сельской местности, где инфраструктура здравоохранения развита весьма слабо (см. табл. 3, ст. 4).
В ходе исследования газеты «Ведомости» выяснилось, что уменьшение численности врачей неизбежно ведет к увеличению нагрузки на оставшихся, что тесно связано с ростом смертности населения, а качественное медицинское обслуживание тесно связано с платежеспособностью пациента, недофинансирование здравоохранения напрямую влияет на уровень смертности населе- ния1. Данные о состоянии и динамике кадрового потенциала системы здравоохранения ПФО представлены в табл. 4.
Изменение численности кадров в организациях ПФО, оказывающих медицинские услуги *
Таблица 4
|
Численность врачей, 2020 г. в % к 2004 г. |
Численность среднего медицинского персонала, 2020 г. в % к 2010 г. |
|
|
РФ |
107,1 |
98,8 |
|
ПФО |
96,8 |
91,8 |
|
республики ПФО |
||
|
Башкортостан |
105,4 |
92,3 |
|
Марий Эл |
97,3 |
82,6 |
|
Мордовия |
95,5 |
85,5 |
|
Татарстан |
102,1 |
106,9 |
|
Удмуртия |
87,3 |
81,8 |
|
Чувашия |
100,5 |
90,4 |
|
Пермский край |
86,7 |
88,2 |
|
области ПФО |
||
|
Кировская |
92,2 |
79,6 |
|
Нижегородская |
100,1 |
92,6 |
|
Оренбургская |
84,6 |
85,4 |
|
Пензенская |
106,2 |
89,6 |
|
Самарская |
99,4 |
97,6 |
|
Саратовская |
92,8 |
93,1 |
|
Ульяновская |
108,2 |
91,1 |
* Здравоохранение. – Федеральная служба государственной статистики. Доступ: (проверено 15.01.2022).
Анализ данных, представленных в табл. 4, свидетельствует, что в период с 2010 по 2020 г. в ПФО произошли гораздо более заметные сокращения медицинского персонала, чем по России в целом (стр. 2, 3); особенно значительным было сокращение среднего медицинского персонала (на 8,2%): в Кировской обл. – на 20,4%, в Удмуртии – на 18,2%, в Марий Эл – на 17,4%.
Мы разделяем подход, в соответствии с которым «пандемия стала той лак- мусовой бумажкой, которая ярко продемонстрировала, к чему привела проводимая в последние годы реформа системы здравоохранения. Ее оптимизировали настолько, что в стране возникла нехватка больниц, квалифицированные кадры начали массово покидать госсектор, а то и страну. Профессия врача стала непрестижной, а пациента все чаще принуждают заплатить даже за самую примитивную медпомощь. Глава Нацмедпалаты Леонид Рошаль отметил, что оптимизация здравоохранения привела к чудовищным последствиям: главное ее “достижение” – резкое сокращение коечного фонда и кадрового состава»1.
Необходимо отметить, что фокусирование внимания на анализе ситуации с COVID -19 отодвигает на задний план не только оценку деятельности власти в этой сфере, но и удовлетворение потребностей в медицинской помощи больных, страдающих другими, порой крайне тяжелыми заболеваниями. Типичным примером такого подхода в сфере здравоохранения в настоящее время выступает недостаточное внимание к профилактике заболеваний, в частности к диспансеризации населения (см. табл. 5).
Таблица 5
Население ПФО, прошедшее диспансеризацию в последние 2 года, % *
|
Городское население |
Сельское население |
|||
|
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
|
|
РФ |
40,55 |
49,68 |
43,97 |
51,93 |
|
ПФО |
45,02 |
53,30 |
54,27 |
60,70 |
|
республики ПФО |
||||
|
Башкортостан |
42,10 |
50,82 |
59,53 |
65,42 |
|
Марий Эл |
62,62 |
69,82 |
55,95 |
69,51 |
|
Мордовия |
65,80 |
75,40 |
76,86 |
78,89 |
|
Татарстан |
51,06 |
66,01 |
61,32 |
66,44 |
|
Удмуртия |
56,80 |
67,33 |
55,96 |
59,39 |
|
Чувашия |
51,45 |
60,87 |
66,54 |
79,78 |
|
Пермский край |
46,29 |
49,68 |
39,79 |
48,38 |
|
области ПФО |
||||
|
Кировская |
52,59 |
64,09 |
63,76 |
74,46 |
|
Нижегородская |
36,60 |
43,30 |
33,94 |
41,95 |
|
Оренбургская |
48,22 |
50,52 |
63,95 |
65,91 |
|
Пензенская |
48,94 |
53,81 |
43,74 |
49,25 |
|
Самарская |
43,87 |
54,49 |
60,39 |
65,14 |
|
Саратовская |
25,82 |
31,67 |
38,52 |
47,38 |
|
Ульяновская |
40,86 |
49,39 |
34,46 |
49,12 |
* Выборочное наблюдение состояния здоровья населения. – Федеральная служба государственной статистики. Доступ: (проверено 20.01.2022).
За последние 2 года прошли диспансеризацию немногим более половины населения ПФО. Сравнительно более высокие темпы диспансеризации демонстрируют Мордовия и Марий Эл, тогда как в ряде регионов (Нижегородская, Саратовская, Ульяновская обл.) наблюдается заметное отставание. В частности, в городах Саратовской обл. прошли диспансеризацию менее трети населения.
Красноречивой оценкой социальных последствий реформирования системы здравоохранения является то, что значительное большинство россиян не доверяют государственным структурам в этой сфере и придерживаются мнения, что «качество работы медицинских учреждений необходимо оценивать со стороны независимых от Минздрава структур (83%)»1, а «41% респондентов за последние несколько лет перепроверяли диагноз и назначения врача»2.
Таким образом, реформа системы здравоохранения в российских регионах привела к существенному сжатию инфраструктуры, оттоку медицинских кадров из госсектора, снижению доступности качественного медицинского обслуживания. Важным социальным последствием реформы является утрата надежды на помощь государственной медицины со стороны значительного большинства населения. Представляется достаточно убедительным предположение, что такой результат изначально рассматривался авторами реформы как ее цель.
Ощущение массовидными социальными группами недоступности (недостаточной доступности) медицинской помощи в связи со слабостью системы здравоохранения в стране сопровождается переживанием ситуации нарастающей неопределенности. Для оценки источников и характера этой неопределенности важно выявить ее связь с деятельностью ответственных структур власти и ее конкретных представителей. В связи с этим трудно объяснить, почему борьбу с пандемией возглавляют люди, непосредственно причастные к разрушению системы здравоохранения в России. Видимо, именно поэтому государственные СМИ стремятся представить кризис системы здравоохранения как частную проблему COVID -19, переложив ответственность на плечи населения и антиваксеров.
В ситуации неопределенности, обусловленной пандемией, на наш взгляд, весьма актуален подход, придающий большое значение учету форм восприятия и переживания этой ситуации самими ее участниками, накладывающих отпечаток на направленность и мотивацию их поведения. Исходя из этого, появление движения антиваксеров вполне объяснимо. Следует подчеркнуть, что подобные проявления могут быть преодолены только путем изменения к лучшему реальной ситуации в сфере здравоохранения и повышения доверия к правящему классу и бизнесу, работающему в сфере здравоохранения.
Список литературы Социальные последствия реформы здравоохранения в регионах России (на примере Приволжского федерального округа)
- Смелзер Н. 1994. Социология. М.: Феникс. 687 с.
- Социология пандемии: Проект коронаФОМ (рук. авт. колл. А.А. Ослон). 2021. М.: Институт Фонда Общественное Мнение (инФОМ). 319 с.
- Тумусов Ф.С., Косенков Д.А. 2019. Современные тенденции в системе здравоохранения Российской Федерации. М.: Изд. ГД РФ. 80 с.
- Шейман И.М. 1998. Реформа управления и финансирования здравоохранения. М.: Издатцентр. 337 с.
- Pleyers G. 2020. A Plea for Global Sociology in Times of the Coronavirus. - ISA Digital Platform Global Sociology and the Coronavirus. April. URL: https://www.isa-sociology.org/frontend/web/uploads/files/Global%20Sociology%20in%20Times%20of%20the%20Coronavirus.pdf (accessed 26.01.2022).