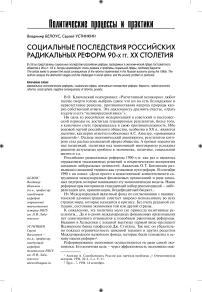Социальные последствия российских радикальных реформ 90-х гг. ХХ столетия
Автор: Белоус Владимир Иванович, Устинкин Сергей Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 3, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены социальные последствия российских реформ, проводимых в экономической сфере постсоветского общества в 90-е гг. ХХ в. Авторы анализируют этапы развала и проблемы социальной сферы, особенно проблема бедности.
Радикальные экономические реформы, социальная сфера, негативные последствия реформ, бедность
Короткий адрес: https://sciup.org/170165281
IDR: 170165281
Текст научной статьи Социальные последствия российских радикальных реформ 90-х гг. ХХ столетия
БЕЛОУС Владимир Иванович – д.и.н., профессор; заведующий кафедрой современной отечественной истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского
УСТИНКИН Сергей
В.О. Ключевский подчеркивал: «Расчетливый великоросс любит подчас очертя голову выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть “великорусский авось”».
Ни одна из российских модернизаций в советский и постсоветский периоды не достигала планируемых результатов, более того, в конечном счете превращалась в свою противоположность. Ибо родовой чертой российского общества, особенно в ХХ в., является наличие, как верно отметил и обосновал А.С. Ахиезер, «хромающих решений»1. Отсюда экономический авантюризм, результатом которого стал распад социальной сферы общества. А примат идеологии над политикой, политики над экономикой многократно усложнил решение актуальных проблем в экономике, политике, социальной жизни и т.д.
Российские радикальные реформы 1990-х гг. как раз и являлись отражением неадекватных решений и некритического восприятия западных либеральных ценностей. Академик О.Т. Богомолов размышлял о шоковой терапии как тупиковом пути реформ. В сентябре 1998 г. он писал: «Дело просто в недостаточной компетентности сотрудников международных финансовых организаций и ряда западных лидеров, которые навязывали эту экономическую модель. Наши реформаторы восприняли стандартный набор рекомендаций – либерализация цен, приватизация, бездефицитный бюджет…
Их Международный валютный фонд по согласованию с вашингтонской администрацией советует широко использовать во всех странах мира, которые находятся в кризисе. Без учета реальной ситуации, состояния экономики той или другой страны.
К сожалению, эта политика мало где принесла позитивные результаты… Да и в самих международных финансовых организациях нет однозначного отношения к подобным рыночным реформам. Недавно в Хельсинки с лекцией выступал первый вице-президент Всемирного банка профессор Дж. Стиглиц. Так вот, он убедительно показал ограниченность шоковой терапии и других рецептов Международного валютного фонда, которые были положены в основу наших реформ»2.
Реформирование экономики осуществляется не ради самой экономики. Его конечная цель – через эффективность экономики мак- симально улучшить жизнь народа. Однако российские радикал-реформаторы как раз про этот народ и забыли. И, вместо оптимизации социального самочувствия, российское население было ввергнуто в социальную катастрофу. Радикальные реформы 90-х гг., основательно разрушив социальную сферу, стали угрозой национальной безопасности и национальным интересам России. Такого не было за всю советскую историю. В Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ 17 декабря 1997 года за № 1300, подчеркивается: «Угрозой безопасности России в социальной сфере, как следствие кризисного состояния экономики, является увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности, расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, усиление социальной напряженности.
Нарастание негативных проявлений в социальной сфере ведет к снижению интеллектуального и производительного потенциала России, сокращению численности населения, истощению основных источников духовного и экономического развития, может привести к утрате демократических завоеваний…»
В истории развала социальной сферы в 90-е гг., на наш взгляд, можно выделить три этапа: 1992–1996 гг., 1996–1998 гг. и третий, начавшийся с 1998 г.
Первый этап. Шоковая терапия привела к обвальному падению жизненного уровня практически сразу. При общем спаде производства за первые три квартала 1992 г. почти на 20%, наибольшим он оказался в отраслях, обеспечивающих социальную сферу. Производство мяса и колбасных изделий сократилось почти на 30%, телевизоров, стиральных машин, тканей – на 22–27%. Согласно исследованиям Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, реальные доходы населения снизились к концу 1992 г. до 44% от уровня начала года. Доля расходов на питание в потребительском бюджете российской семьи в 1992 г. в среднем составила 60%, а у семей с детьми и пенсионеров – до 80–90% денежных поступлений, чего не было с послевоенных лет. Более 70% респондентов сообщили, что они вообще утратили возможность что-либо приобретать из одежды и обуви. Вследствие роста цен за год в 26 раз насе- ление оказалось фактически лишенным накопленных сбережений в учреждениях Сбербанка, гарантом которых выступало государство. Только прямые потери по вкладам составили 500 млрд руб. В конце 1992 г. Россия по уровню и структуре потребления была отброшена к 60-м гг. Гайдарономика резко усилила неравенство в распределении национального дохода. В течение года Россия превратилась в общество резких социальных контрастов.
Радикальными реформами был нанесен сокрушительный удар по сфере образования, культуры и науки. Существенное сокращение дотирования привело к тому, что только в науке, по данным Госкомстата России, число занятых по сравнению с 1990 г. сократилось к концу 1993 г. на 27%, в том числе в академической науке – на 24%, отраслевой – на 30,4%, в вузовской – на 11,8%. «Утечка мозгов» за рубеж составила 3,5 тыс. чел.1
Ситуация продолжала ухудшаться и в последующие годы. Бичом для населения России стали инфляция и безудержный рост цен, существенно опережающий рост заработной платы. В январе 1993 г. инфляция составила 26%, в последующие месяцы – упала до 20%, к октябрю снова подскочила до 24,5%2. По данным Рабочего центра экономических реформ при правительстве России, потребление к концу 1993 г. по сравнению с 1991 г. снизилось на 30%. В сентябре 1994 г., по сравнению с 1990 г., цены на молоко и кефир выросли в 2 600 раз, на хлеб – в 2 800 раз, проезд в метро – в 5 000 раз, на простую мужскую стрижку – в 10 000 раз. А средняя зарплата, с учетом роста цен, все худела. Если на среднемесячный денежный доход россиянина в 1994 г. можно было купить 59 кг говядины, то в III квартале 1995 г. – 49 кг; мороженой рыбы соответственно 82 и 65 кг; молока (в литрах) – 322 и 255; сахарного песка – 180 и 130 кг; пшеничного хлеба – 308 и 242; риса – 287 и 162; картофеля – 373 и 247; капусты – 178 и 221; маргарина – 66 и 523. Но что такое средняя зарплата? Как справедливо отмеча- ла Г. Дубянская, это – граница бедности. В сентябре 1995 г. она равнялась 565 тыс. руб., или 126,3 долл. США. Скудный же набор из 19 продуктов стоил в этом месяце в среднем около 205 тыс. руб., или 36,3% от уровня средней зарплаты. Качественное по калорийности и структуре питание должно было бы обойтись примерно в 2 раза дороже. То есть, затраты на еду составляли бы более 70% средней зарплаты. А за этой чертой в сентябре 1995 г. находилось 70% населения России, или 102,9 млн чел., за порогом же абсолютной нищеты – 32,8 млн. В самом худшем положении оказались люди, занятые в сферах образования, науки, здравоохранения, культуры, – примерно 15 млн чел. Средняя зарплата с января 1992 г. по сентябрь 1995 г. увеличилась с 1 438 руб. до 565 тыс. – в 393 раза; минимальная пенсия с 234 руб. до 105 тыс. (с компенсацией) – в 448 раз; средняя пенсия – с 438 руб. до 214 тыс. (с компенсацией) – в 489 раз. Потребительские же цены выросли за этот период, по официальным данным, в 1 609 раз1. По сути, речь идет о массовой бедности, катастрофическом падении уровня жизни. И основная, хотя и не единственная причина – «шоковый» переход от одной социально-экономической системы к другой при отсутствии социальных амортизаторов.
Второй этап. «Черный вторник» 11 апреля 1996 г. сыграл злую шутку с теми незначительными позитивными тенденциями, которые наметились в экономике и социальной сфере. За одиннадцать месяцев ВВП уменьшился еще на 6%, объем промышленной продукции – на 5%. По оценке экспертов, осталось 48% промышленного производства от уровня 1989 г. Износ основных фондов в промышленности достиг 50–60%, а инвестиции сократились еще на 18%. В сельском хозяйстве тоже наблюдался спад. Если в конце 1992 г. коров было 20,2 млн голов, то в конце 1996 г. – 16,6 млн; свиней соответственно 31,5 и 21,6 млн. За 1996 г. производство мяса и молока сократилось по сравнению с 1995 г. еще на 8–9%. Грузооборот упал на 5%, розничный товарооборот – на 4%. Рос только внешнеторговый оборот. За 11 месяцев 1996 г. в Россию было ввезено товаров на 53,3 млрд долл. (109% к 1995 г.), а продано на 72,6 млрд. (110%), но положительное сальдо было достигнуто почти исключительно за счет экспорта сырья и металлов.
Однако социальная составляющая российской модернизации продолжала падать, хотя и удалось несколько приостановить инфляцию. Если потребительские цены, по данным Госкомстата, в 1990 г. выросли в 1,05 раза; в 1991 – в 2,6; в 1992 – в 26,1; в 1993 – в 9,4; в 1994 – в 3,24; в 1995 – в 2,31, то в 1996 – в 1,22 раза, то есть на 22%. Всего за семь лет цены выросли в 6 115 раз, а рубль обесценился в 7 500 раз. Покупательная способность средней начисленной зарплаты в промышленности в октябре 1996 г. составляла лишь 57% от зарплаты 1989 г., а в сельском хозяйстве – 26%. Если в 1990 г. среднестатистический гражданин мог приобрести 3,3 набора самых необходимых товаров и услуг, составляющих прожиточный минимум, то в 1996 – 2,2. В целом же реальные денежные доходы, по официальным данным Госкомстата России, за 11 месяцев 1996 г. снизились на 1% по сравнению с тем же периодом 1995 г.
В 90-е гг. в России вновь возник феномен, о котором забыли с начала 30-х гг., – многомесячные невыплаты и задержки заработанного денежного содержания, что обостряло социальную напряженность. По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в ноябре 1996 г. во всех экономических регионах России, в октябре этого года получили зарплату полностью и своевременно только 29,5% работников. Еще 19% деньги выдали, но с задержкой. При этом 11,9% опрошенных заплатили не полностью, а 38,9% – вообще не получили зарплату. Совсем не получили денег примерно 25 млн россиян, и еще с 7 млн граждан расчет был произведен частично. Кроме того, более чем 30 млн пенсионеров не были выплачены пенсии. В общей сложности в 1996 г. ожидали причитающихся им денег 65–67 млн наших соотечественников.
В результате шокотерапии возродился еще один, забытый с начала 30-х гг., феномен – массовая безработица. В ноябре 1996 г. она составила, по официальным данным, 6,8 млн чел., или 9,4% экономически активного населения. Но существовали и скрытые формы безработицы в виде неоплачиваемых отпусков, сокращенного режима работы. В 1996 г. 6,7 млн чел. находились в вынужденных административных отпусках различной продолжительности, причем около 3 млн не получали ни копейки. Еще 3,2 млн трудились в режиме неполного рабочего времени; фактическая продолжительность рабочего дня составляла в промышленности не 8 часов, а 5,9; на транспорте – 6,6; в строительстве – 6,4; в среднем – 6,6 часа. Безработица больше всего затронула мужчин – 55%. Средний возраст безработных составлял 34,4 года. Около 40% из них имели высшее или среднее профессиональное образование.
Остро стояла жилищная проблема. На начало 1996 г. в очереди на получение бесплатного государственного жилья в местных администрациях и на предприятиях стояло около 8 млн российских семей, причем каждая шестая из них ожидала квартиру 10 или более лет. В коммуналках в 1996 г. проживало 3 млн наших сограждан, в общежитиях – 5,6 млн.
Серьезные социальные проблемы привели к росту числа психических заболеваний. За пять лет радикальных реформ число инвалидов вследствие психических заболеваний увеличилось на 50%. На Всероссийском Пироговском съезде врачей в начале июня 1997 г. был констатирован бесспорный факт: Россия переживает чудовищный, беспрецедентный кризис здоровья нации и здравоохранения. Если в США государство тратит на здравоохранение свыше 2 тыс. долл. в год на душу населения, в развитых европейских странах – около 1 тыс., то в России на обеспечение здоровья каждого гражданина приходится от 60 до 80 долл. в год. В целом расходы на здравоохранение в России в 1997 г. составили 2,5% от ВВП, в то время как в Таджикистане – 6%; в Узбекистане – 5,9%; Украине – 4,7%; Казахстане – 4,4%; Белоруссии – 3,2%; Азербайджане – 2,8%.
За годы радикальных реформ значительно сократилась рождаемость. Если в 1970 г. на 1 000 чел. населения приходилось 14,6 новорожденных, в 1990 – 13,4, то в 1992 г. – 10,7, в 1997 – 8,6, в 1998 – 8,8. В 1970 г. естественный прирост населения равнялся 7 722,5 тыс., в 1992 г. прирост прекратился и убыль составила 219,8 тыс., в 1997 г. россиян стало меньше на 755,9 тыс. В 1990 г. на 1 000 чел. населения умерло 11,2, в 1998 г. – 13,6. Здоровье человека на
50–55% обусловлено уровнем жизни, а к концу 1997 г. примерно 5–7% населения России жило на грани бедности, а 21% – даже ниже.
Третий этап. Существенно обострил социальную ситуацию августовский кризис 1998 г. Уже в конце 1998 г. около 45 млн россиян имели денежные доходы ниже прожиточного минимума. Средняя зарплата снизилась со 160 долларов до 60. По данным директора ВЦИОМ профессора Ю.А. Левады, в 1998 г. в России насчитывалось 9 млн безработных1. Пенсия в реальном исчислении сократилась вдвое и составила на начало 1999 г. лишь 72% от прожиточного минимума. Многим заболевшим гражданам стали недоступны лекарства и дорогостоящее лечение в больнице. Треть россиян с глубоким пессимизмом смотрела в будущее. В 1999 г. реальная зарплата уменьшилась почти на четверть. Более 4 млн чел. получали зарплату менее 350 руб. в месяц. Более 500 тыс. граждан получали до 100 руб. в месяц. Свыше миллиона – от 100 до 200 руб., полтора миллиона – от 200 до 300 руб. А прожиточный минимум в IV квартале 1999 г. составлял 1 054 рубля. Это значит, что месячной зарплаты, которую получали эти люди, хватало лишь на 3–9 дней. У каждого десятого наемного работника зарплата была вдвое меньше прожиточного минимума. В 1999 г. бедных в России стало в 2 раза больше, чем в 1997 г.
Широкомасштабная бедность стала серьезнейшим тормозом развития страны. Красноречивый факт: объем розничной торговли сократился в 1999 г. на 7,6%. Иными словами, чрезвычайно низкий уровень оплаты труда и огромная задолженность по зарплате входят в число самых актуальных социальных проблем. Конечно, многое еще будет переосмыслено, новые, неизвестные в настоящее время источники позволят по-иному взглянуть на проблему. Но уже сейчас понятно, что социальная цена радикальных реформ 90-х гг. ХХ столетия оказалась слишком велика.