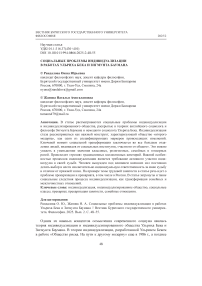Социальные проблемы индивидуализации в работах Ульриха Бека и Зигмунта Баумана
Автор: Рандалова О.Ю., Жапова Н.А.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 2, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются социальные проблемы индивидуализации и индивидуализированного общества, раскрытые в теориях английского социолога и философа Зигмунта Баумана и немецкого социолога Ульриха Бека. Индивидуализация стала рассматриваться как важный конструкт, характеризующий общество «второго модерна», как один из специфицирующих маркеров происходящих изменений. Ключевой момент социальной трансформации заключается во все большем отдалении людей, индивидов от социальных институтов, «частного от общего». Это можно увидеть в уменьшении значения классовых, религиозных, семейных и гендерных ролей. Происходит «эрозия» традиционных коллективных категорий. Важной особенностью процессов индивидуализации является требование активного участия индивидуума в своей судьбе. Человек вынужден под влиянием внешних сил постоянно делать выбор и нести исключительно индивидуальную ответственность за свою судьбу в отличие от прежней эпохи. На примере темы трудовой занятости в статье речь идет о проблеме прекаризации и прекариата, в том числе в России. В статье затронуты и такие социальные следствия процесса индивидуализации, как трансформация семейных и межличностных отношений.
Индивидуализация, индивидуализированное общество, социальные классы, прекариат, прекаризация занятости, семейные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/148331680
IDR: 148331680 | УДК: 101.1:316.37(430+410) | DOI: 10.18101/1994-0866-2025-2-48-55
Текст научной статьи Социальные проблемы индивидуализации в работах Ульриха Бека и Зигмунта Баумана
Рандалова О. Ю., Жапова Н. А. Социальные проблемы индивидуализации в работах Ульриха Бека и Зигмунта Баумана // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2025. Вып. 2. С. 48–55.
Одним из важных концептов осмысления современного социума явилась теория индивидуализации и индивидуализированного общества Ульриха Бека и Зигмунта Баумана. В теории индивидуализации, разработанной Ульрихом Беком в работе «Общество риска. На пути к другому модерну» еще в 1986 г., а позднее расширенной Зигмунтом Бауманом, исследуются процессы изменения современного общества, общества «модернити». Авторы показывают, каким образом происходит разрушение традиционных социальных структур, а именно системы отношений человек — общество, характерной для доиндустриальных обществ премодерна. Индивидуализация стала рассматриваться как важный конструкт, характеризующий постиндустриальное общество или общество «второго модерна», как один из специфицирующих маркеров происходящих изменений. В отечественном социальном знании вышло немало научных исследований, посвященных анализу работ З. Баумана и У. Бека, в том числе проблеме индивидуализации и индивидуализированного общества, а также проблеме индивидуализации как социально-исторического процесса в историко-философском плане [3; 5; 8–10 и др.].
Ключевой момент социальной трансформации заключается во все большем отдалении людей, индивидов от социальных институтов, «частного от общего». Это можно увидеть в уменьшении значения классовых, религиозных, семейных и гендерных ролей. Происходит «эрозия», размывание традиционных коллективных категорий [14]. Семья, класс и сообщество, которые когда-то обеспечивали людей стабильными ролями и ожиданиями, теперь уже не являются прежними. По мнению Зигмунта Баумана, «смысл “ индивидуализации ” состоит в освобождении человека от предписанной, унаследованной и врожденной предопределённости его социальной роли, что составляет перемену, справедливо рассматриваемую как наиболее заметную и основополагающую черту эпохи модернити» [1]. Общество становится нестабильным, оно постоянно меняется. Зигмунт Бауман использует понятие-метафору «текучая современность» или «текучее общество» [2]. Хотя о подобной ситуации он написал еще в «Индивидуализированном обществе»: «Сегодня в движение пришли не одни только люди, но также и финишные линии дорожек, по которым они бегут, да и сами беговые дорожки. Утрата четкого места в обществе становится ныне опытом, который может сколько угодно раз повторяться в жизни каждого человека, в то время как лишь немногие, а то и никакие из возможных статусов не оказываются достаточно надежными, чтобы можно было говорить о длительном пребывании в них» [1].
«Текучее общество» подразумевает неопределенность и нестабильность, люди сталкиваются с широким спектром возможностей, из которых им приходится выбирать, но они никогда не знают, какие последствия вызовут их решения. Неизвестность и непредсказуемость выбора — черты также «общества риска» У. Бека [4]. В «обществе риска» люди вынуждены принимать трудные решения, которые изменят их будущее, такие как найти новую работу вместо той, которую человек уже имеет, жениться или нет, или переехать в новую страну, ищут новые возможности: «Решения о специальном образовании, профессии, рабочем месте, местожительстве, супруге, количестве детей и т. д. вкупе со всеми решениями подчиненного порядка не только могут приниматься, но и должны приниматься. Даже там, где слово “решение” звучит слишком высокопарно, поскольку нет ни осознания, ни альтернатив, индивиду придется “расхлебывать” последствия не принятых им решений. Важно подчеркнуть, что предсказать будущие результаты практически невозможно» [4]. Эти радикальные изменения в жизни людей вызывают появление идеи, что люди сами являются хозяевами своей жизни. И это, казалось бы, положительный момент, речь идет о долгожданной свободе от общества, от регламентирующих общественных ограничений. Однако люди не выбирали жить в индивидуализированном обществе. Фактически это больше связано с внешними факторами, заставляющими сообщество адаптироваться к новой жизни. Действительно, современный мир требует, чтобы люди обладали мобильностью, гибкостью и способностью в любой момент изменить свою карьеру, переехать в поисках работы в другое место, город или страну. Это подводит нас ко второй особенности индивидуализации — «рефлексивной субъективности» [4]. Этот термин подразумевает возрастающую ответственность индивидов как граждан. Общество и государство поощряют самостоятельность, перекладывая ответственность с государства на отдельного человека. Программы социального обеспечения были сокращены во многих странах, что усилило ожидание того, что люди должны сами управлять своим образованием, трудоустройством и пенсионными планами. Там же, где для смягчения социальных проблем государство запускает различные социальные программы, такие как политика дополнительного питания и жилищная помощь, в большинстве случаев эта политика предназначена для отдельных лиц, а не для семей. В этом случае государство всеобщего благосостояния создает условия для индивидуализированного образа жизни [14]. Элизабет Бек-Грейнсхайм, соавтор Ульриха Бека и его супруга, в интервью говорила, что ключевой особенностью процессов индивидуализации является требование активного участия индивидуума в своей судьбе: «Индивидуализация — это принуждение, хотя и парадоксальное, создавать, организовывать не только собственную биографию, но и связи и сети, ее окружающие, и делать это на фоне меняющихся предпочтений и на последовательных этапах жизни. Чем больше расширяется диапазон вариантов и растет необходимость выбора между ними, тем больше индивидуумам приходится выполнять задачи биографической адаптации, координации, интеграции. Чтобы не потерпеть неудачу, мужчины и женщины должны уметь планировать на долгосрочную перспективу и адаптироваться к изменениям. Они должны организовываться и импровизировать, ставить цели, распознавать препятствия, принимать поражения и пробовать новые старты»1.
Сегодня мы можем наблюдать, что людей поощряют быть индивидуалистичными, эгоцентричными и независимыми. Одним из наиболее подходящих примеров такого поощрения может служить рынок труда: работодатели хотят нанимать людей, которые будут сосредоточены на работе и готовы к деловой поездке, а не работников, которым необходимо уделять время и энергию своей семье. У. Бек и Э. Бек-Гернсхайм подчеркивают, что индивидуализация — это не просто личный выбор, это процесс, формируемый структурными силами [15]. И это силы, вынуждающие индивидуума к определенной стратегии жизни, необходимости совершать выбор вновь и вновь, нести исключительную ответственность за последствия сделанного или несделанного выбора. Индивидуализация является «принудительной», а не подразумевает подлинную личную свободу, и является неотъемлемой частью самости в неолиберальном (бес)порядке [7].
Cовременный рынок труда не защищает рабочие места и многие люди работают на нестабильных или временных должностях. В отличие от прошлых поколений, которые могли полагаться на долгосрочную занятость и сильные общественные сети, современные работники должны постоянно адаптироваться к меняющимся экономическим условиям, часто без социальной поддержки. В работе «Индивидуализированное общество» Зигмунт Бауман писал, что отношения труда и капитала в отличие от эпохи «тяжелой модернити» теперь уже не скреплены «узами брака на небесах» до скончания века: «Лозунгом дня стала “гибкость”, что применительно к рынку труда означает конец трудовой деятельности в известном и привычном для нас виде, переход к работе по краткосрочным, сиюминутным контрактам либо вообще без таковых, к работе без всяких оговоренных гарантий, но лишь до “очередного уведомления”» [1]. Но если капитал приобрел «легкость» мобильности и необязательности, то этого нельзя сказать о труде, который по-прежнему остается локализованным: «Придавленные к земле, обездвиженные, не пытающиеся сменить место жительства или хватаемые на ближайшей границе, они априори находятся в невыгодном положении по сравнению со свободно перемещающимся капиталом. Последний все более глобализируется; они же остаются локализованными» [1]. Традиционная модель пожизненной занятости у одного работодателя в значительной степени исчезла во многих развитых экономиках, ее заменили краткосрочные контракты, удаленная работа и экономика свободного заработка. Ульрих Бек утверждает, что этот сдвиг заставляет людей постоянно адаптироваться к меняющимся экономическим условиям, требуя от них брать на себя ответственность за свои карьерные траектории без долгосрочной гарантии занятости [4]. Это создает как возможности для самосовершенствования, так и риски экономической нестабильности. В современной социологии появились термины для выражения такого явления — «прекарная занятость», «прекариат», «прекаризация». Наиболее нашумевшим в этом плане событием явилась работа Гая Стендинга «Прекариат: новый опасный класс», в которой предлагалась социальная стратификация западного общества с новым социальным классом [12]. В нашей стране также появились исследования, в которых поддержали идею появления нового явления [6; 11; 13 и др.]1. Так в фундаментальной работе «Прекариат. Становление нового класса» под редакцией Ж. Т. Тощенко подводятся итоги масштабных исследований прека-ризации занятости и утверждается формирование в России и во всем мире прека-риата как нового социального класса, «который характеризуется неформальной, временной, сезонной или частичной занятостью, носящей негарантированный, нестабильный, неустойчивый, преходящий характер» [11, c. 66]. В качестве критериев выделения нового класса выдвигается следующее: оформление на работу без заключения трудового договора, смена работы больше одного раза, постоянная переработка, несоответствие образования работе, зарплата в конверте, подработка в сторонней организации, невлиятельность в организации [11]. Несмотря на серьезные критерии и индикаторы выделения нового класса вопрос остается дискуссионным, речь идет о новом классе или социальном слое? По мнению Л. Г. Фишмана, прекариат есть «не более чем концепт, отражающий, во-первых, ситуацию “турбулентности”, а во-вторых, подсознательное стремление “вернуть все как было”» [14, c. 110]. Сомнения в становлении прекариата вызывает как раз его «привязка» к нестабильности, неустойчивости и временности самого общества, тех сущностных черт, на основании которых и выделяют этот класс. Автор полагает, что «как только нестабильность закончится, подавляющее большинство представителей прекариата вернется в свои прежние социальные ниши — наемных работников с социальными гарантиями, устойчивой занятостью и предсказуемыми жизненными траекториями» [14, с. 110]. Несмотря на время, прошедшее с выхода работ Бека и Баумана, современная ситуация по-прежнему не демонстрирует стабильность, устойчивость и уверенность в обозримом будущем как для общества, так и для отдельного человека. Так или иначе речь идет о серьезном социальном явлении, позволяющем исследователям говорить не только о прекаризации занятости, но и о прекаризации жизни. Ученые И. О. Шевченко, П. В. Шевченко, опираясь на исследование Прекариат 18 [11], утверждают, что прекаризация занятости приводит к снижению жизненной активности из-за сверхэксплуатации, уменьшению свободного времени и изменению в целом образа жизни: «Прекаризованность жизни также — нестабильность, неустойчивость жизненной ситуации (связанная в первую очередь с материальным фактором и отсутствием социальной защищенности, но не только), невозможность решить некоторые жизненные проблемы и как следствие — преобладание негативных оценок своей жизни, формирование социальной аномии» [13, с. 64].
Кроме того, З. Бауман и У. Бек исследуют проблему трансформации межличностных отношений. В обществе «второго модерна» усиливается марксовское отчуждение человека от человека вследствие увеличения всеобщей конкуренции, кто-то станет выше, а кто-то ниже. Ранжирование — это еще одна черта современности, которая преследует нас с самого детства, она явно не способствует солидарности между людьми. Традиционные общественные связи ослабли, и люди все чаще формируют краткосрочные, потребительские отношения, а не глубокие, долгосрочные связи. Романтические и социальные связи часто рассматриваются как одноразовые, сформированные рыночными ожиданиями и цифровой коммуникацией [1]. Это привело к тому, что он называет «текучей любовью», где обязательства мимолетны и люди изо всех сил пытаются найти смысл в отношениях. Бек-Грейнсхам считает, что «В современную эпоху любовь — это не внутреннее состояние, которое, однажды наступив, останется с нами до конца наших дней. Вместо этого это состояние, за которое нужно бороться заново каждый день, в хорошие и плохие времена. Любовь стала задачей, постоянным вызовом, доводящим нас до пределов нашей терпимости и терпения (а иногда и дальше, к ярости и отчаянию)»1. Хотя о кризисе семьи и семейных отношений пишут со второй половины прошлого века, проблема не перестает быть актуальной. Индивидуализированное общество «второго модерна» не нуждается в семье и семейном человеке, семейные отношения вступают в противоречие с требованиями рынка: «Главная фигура развитого модерна — это одинокий мужчина или одинокая женщина» [4]. Одиночество, наверное, наиболее очевидное следствие индивидуализации. Неслучайно в своем выступлении в Москве в 2011 г. З. Бауман привел в качестве актуальной для постмодерна дистопии «Возможности острова» Мишеля Уэльбека, в которой главный герой сознательно выбирает не иметь семью и детей, более того, в книге прогнозируется печальная участь большинства, особенно европейских жителей, — умереть в одиночестве2.
Индивидуализация как основополагающая характеристика общества «второго модерна» в трудах Зигмунта Баумана и Ульриха Бека есть явление амбивалентное, противоречивое, выступая как процесс освобождения человека от общества в лице классов, семьи, религии, традиций, и вместе с тем жестокое при любых ошибках индивидуального выбора. «Когда что-то идет не так, нет оправданий никому. Индивидуум сурово наказывается не только за личные неудачи, но и за простое невезение в высококонкурентной и беспощадно жесткой социальной среде» [7]. С этим утверждением Карла Томпсона трудно не согласиться, к сожалению, мы вынуждены удостоверяться в этом вновь и вновь.