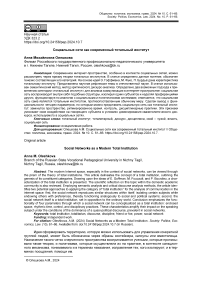Социальные сети как современный тотальный институт
Автор: Олешкова А.М.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 10, 2024 года.
Бесплатный доступ
Современное интернет-пространство, особенно в контексте социальных сетей, можно рассмотреть через призму теории тотальных институтов. В статье определено данное понятие, обозначен генезис составляющих его категорий. На основе идей Э. Гоффмана, М. Фуко, П. Бурдьё дана характеристика тотальному институту. Представлена научная рефлексия темы в отечественной науке. В статье использован семантический метод, метод критического дискурс-анализа. Определено два возможных подхода к применению категории «тотальный институт» для анализа коммуникации в интернет-пространстве: социальная сеть воспроизводит внутри себя подобные структуры, изолируя одних субъектов и наделяя преференциями других, функционируя по аналогии с социальными и политическими системами; отмечается, что социальная сеть сама является тотальным институтом, противопоставленным обычному миру. Сделан вывод о функциональности четырех параметров, по которым можно представить социальную сеть как тотальный институт: замкнутое пространство, ритмизированное время, контроль, дисциплинарные практики. Эти признаки умножают свое воздействие на говорящего субъекта в условиях доминирования квазиполитического дискурса, используемого в социальных сетях.
Тотальный институт, тоталитарный, дискурс, дисциплина, свой - чужой, власть, социальная сеть
Короткий адрес: https://sciup.org/149146636
IDR: 149146636 | УДК: 323.2 | DOI: 10.24158/pep.2024.10.7
Текст научной статьи Социальные сети как современный тотальный институт
В зарубежной науке среди классиков политической, социологической и философской мысли в качестве основателей теории тотальных институтов, следует назвать Э. Гоффмана, П. Бурдьё, М. Фуко. В современной российской науке социальным сетям и тотальными институтам посвящен целый ряд работ, однако связь между ними не была операционализирована. При этом современная наука выработала важные акценты в осмыслении этих феноменов. Так, социальные сети можно понимать как «социальный капитал»1, они обладают фундирующим потенциалом, представляя собой целую «эпоху осетевления»2, само наличие таких сетей и, в частности, социальных медиа можно интерпретировать как противовес авторитарному и тоталитарному ре-жимам3. Сетевые манизмы формирования идентичностей играют особую роль в исследовании «цифрового поколения» и социетальных трансформаций современного общества (Мирошниченко, 2017). Сетевая методология занимает важное место в анализе сферы публичной политики, позволяет соединять теоретическое моделирование и эмпирические исследования (Морозова, Мирошниченко, 2011). Тема тотальных институтов раскрывается также на примере существующих теорий с акцентированием ключевых концептов: биополитики, медикализации социальных проблем, инверсии нормы и др.4 Примечательно, что вне зависимости от научной области осмысления темы (социология, философия, филология) в исследованиях интернет-коммуни-кации затрагивается проблема политического участия субъекта.
Пространство классического тотального института – вполне конкретно, оно очерчено физически. За длительный период истории человечества в разных культурах и политических режимах существовали и продолжают функционировать большинство из них: тюрьмы, больницы, казармы, монастыри, лагеря, учебные заведения. Важный признак таких институтов, которые подпадают под термин «тотальный», – закрытый характер учреждений. Если тюрьма относится к их числу по определению, то в случае, например, больниц или учебных заведений следует делать оговорку, что к таким институтам относятся те из них, которые подразумевают некоторый фильтр для выхода и входа в данное пространство.
Введение в научный оборот термина «тотальные институты» и дальнейшая разработка данного феномена связаны в первую очередь с именами Эрвина Гоффмана и Мишеля Фуко. Первый из названных определяет особенности тотального института через ряд особенностей. Субъект находится в состоянии полного погружения в специфическое единое, замкнутое на самом себе пространство. Также важно, что таких субъектов, включенных в него, должно быть много. Находясь в этом пространстве, большое количество людей ведет схожий, фактически одинаковый образ жизни. Количество опций, которыми обладают субъекты, конечно. Варианты поведения не только ограничены, но и тщательно регламентированы. Такие институты не просто контролируют жизнь субъектов, включенных в «контейнер», но и влияют на формирование их идентичностей. Я субъекта может быть подвержено унижению, деградации, оскорблению5.
Социальные институты концентрируют в себе определенный символический капитал. Находясь в них, субъекты перенимают конкретные практики поведения, выстраивают свои иерархии. Описывая разные социальные институты, П. Бурдьё акцентирует внимание на ряде их особенностей, которые важны и для тотальных институтов. Например, церемонии, степень торжественности которых сопряжена со спецификой социальных отношений (Bourdieu, 1995: 52).
На материалах разных языков можно видеть, как на протяжении XX в. коннотация слова «тотальный» не менялась, в то время как коннотативная окраска понятия «тоталитарный» эволюционировала от положительной и нейтральной до резко негативной6. При близкой семантике следует отличать понятия «тотальный» и «тоталитарный». Пьер Бурдьё приводит в пример описание институтов, подходящих под характеристики второго термина. В них придается значение мелочам (осанка, произношение отдельных слов). Телу предписывается статус субъектности, поэтому в нем как «личности» сконцентрированы отдельные характеристики культуры, выбранные как будто случайно, но позиционирующиеся как фундаментальные. Это сложная квинтэссенция «педагогики, способной привить новую космологию, этику, метафизику, политическую философию» (Bourdieu, 1995: 94).
Э. Гоффман определяет категорию тоталитарного через динамику Я. Так, оно может проявляться только в борьбе с чем-то или кем-то. При нормальных условиях Я находится посередине между идентификацией себя с чем-то и противостоянием этому. То, что субъект может высказать открыто, гораздо менее интересно, чем «эмоциональная магия защиты своего личного святилища» (Goffman, 1961: 320).
Контроль и дисциплина над телом являются составными частями теории биовласти и дискурса М. Фуко. Эволюционируя, дисциплинарные практики отражают все более широкие и разнообразные механизмы реализации власти в обществе. Важно, что у мыслителя последняя не является лишь репрессией для субъекта, она формирует субъектность посредством системы знаний и разных критериев истины в зависимости от эпохи. Кроме того, представляется перспективным, что М. Фуко отмечал движение власти к децентрализации1, но фактически это означало не ее нивелирование, а рассредоточение по разным участкам системы, в том числе по тем частям условного «контейнера», от которых субъект может не ждать репрессивного воздействия. В этом состоит одно из принципиальных отличий системы классических тотальных институтов от образований новейшего времени, функционирующих вместе с тем и в логике постмодернистского общества, где есть место симуляции, виртуальности, множественной идентичности. В этом контексте представляется, что теорию тотальных институтов можно применить к анализу пространства социальных сетей.
Прежде всего надо отметить, что подобные образования оказывают влияние на идентичность субъекта, в случае с социальными сетями – на идентичность анонима, «говорящего субъекта». Охарактеризуем социальные сети согласно параметрам, маркирующим их как пример тотального института: замкнутое пространство, ритмизированное время, контроль, дисциплинарные практики, а также квазиполитичность циркулируемого дискурса.
При всей декларируемой открытости современного общества и множественности вариантов коммуникации социальные сети представляют собой пример замкнутого пространства, в котором говорящим субъектам приходится общаться в рамках конкретной платформы в соответствии с конкретными правилами. В современных условиях Рунет имеет несколько уровней ограничения. Помимо особенностей модерации в разных группах, возможности быть исключенным из беседы по воле контролера (бан, от англ. ban – запрещать, объявлять вне закона), потенциально возможных действий «троллей» и «ботов», важно учитывать запрет отдельных социальных сетей с точки зрения законодательства РФ. Как следствие, попасть в такое пространство и технически, и идеологически может не каждый субъект. Эти «контейнеры» распространяют на пользователей свои правила и нормы, действуют по принципу сегрегации: происходит вхождение в новый мир, когда прежний оставлен за пределами. Такие сообщества размывают границы между собственно виртуальным и реальным, личным и публичным, серьезным и смешным, политическим и неполитическим и т. д., формируя пространства множественной идентичности говорящего субъекта.
Степень изоляции, погружения в виртуальное пространство может быть разной. Даже классические тотальные институты обладали подвижностью этого критерия (например, моряки, принявшие самостоятельное решение уйти в длительное плавание). Возможен и добровольный выход из Сети в глобальном смысле слова. Однако любое пребывание в ней оставляет цифровой след.
Сквозным для всех обозначенных параметров являются особенности дискурса в социальных сетях. «Дискурс» можно понимать и на уровне отдельных циркулирующих тем и тезисов конкретных говорящих субъектов. Но также это понятие подразумевает определенную внесубъек-ность, что-то, находящееся за пределами воли говорящего субъекта. Таков, например, «дискурс» в теории М. Фуко, где он как бы опосредует субъекту. Автор при этом является функцией (Фуко, 1996: 22). В этой связи можно говорить о разных идеологиях, которые не порождают конкретные говорящие субъекты, а манифестируются через них. Посты и комментарии соответствующего типа – следствие той повестки, которая есть в данный момент в реальном мире, а не частное решение данного говорящего субъекта.
Метод критического дискурс-анализа, представленный в работах, например, Т. Ван Дейка, позволяет относиться к любой фразе говорящего субъекта как к стремлению установить асимметричные отношения, как к трансляции дискурса доминирования (Ван Дейк, 2013). Термин «квазиполитичность» дает возможность описать такой дискурс, характерный совершенно для разных социальных сетей и пабликов. На примере интернет-комментариев можно заметить, во-первых, преобладание негативных высказываний, их наличие можно обнаружить даже в нейтральных или изначально положительных темах (например, «постить котиков», что одновременно указывает на внеполитический контент и содержит упрек субъекта в аполитичности); во-вторых, способность говорящих субъектов свести даже нейтральную тему (посвященную вопросам науки, культуры, религии, экономики, музыки, спорта и т. д.) к политизированной.
Дискурс социальных сетей обладает способностью к выстраиванию полилога по принципу «свой - чужой». Следует отметить, что классические тотальные институты формировались в том числе при восприятии условного Другого как опасного, как врага, как ненормального, которого надо изолировать. Попасть в бан за точку зрения, отличную от специфики отдельного паблика или информационной политики конкретной социальной сети, реагирующей на большую политику, - это возможный сценарий для любого говорящего субъекта, даже если он не понимает прецедентных феноменов и не особо осведомлен в происходящих политических нарративах.
В социальных сетях коммуникация подчинена ритмизированному времени. Действия говорящих субъектов вполне единообразны, связаны с определенным распорядком. Новости актуализируются в определенное время, приходят уведомления о произошедших событиях. Лайки, комментарии, комментарии на комментарии формируют поток информации. Говорящий субъект вынужден принять эти правила, что формирует у него определенные привычки: проверять новостную ленту, заходить в свой аккаунт, реагировать на Другого.
Контроль в социальных сетях осуществляется через алгоритмы системы, что обезличивает власть и помещает ее ресурс во все точки системы. Помимо автоматизированного надзора, возможен контроль со стороны администратора группы. Сами говорящие субъекты являются контролерами и цензорами друг для друга. Такой механизм напоминает идею Мишеля Фуко, заимствованную у И. Бентама - паноптикон (паноптикум): прозрачная тюрьма (Фуко, 1999: 253), где каждый участок контролируется, но кем - для подчиненного это может быть неясным. Его видят, он сам - нет. Атмосфера постоянного оценивания, самоцензура формируют механизм контроля и давления всех над всеми. Это приводит к формированию особого нормативного поведения, когда каждый стремится соответствовать ожиданиями кого-то извне. Коммуникация в конкретных пабликах, комментарии к новости фиксируют расслоение в социальных сетях, маркируют тех, кто в данном пространстве находится в меньшинстве.
Дисциплинарные практики могут проявляться в социальных сетях в двух вариантах - словесном и визуальном. Говорящие субъекты формируют стандарты представления себя и реагируют на представления Других. Помимо важных для субъекта тем, через которые он себя позиционирует, таких, например, как красота, популярность, успешность, значимыми оказываются вопросы духовно-нравственной культуры, патриотизма, геополитики. В этой группе тем очень сложно найти один правильный ответ, и споры по ним - распространенная реакция субъекта, который находится в одном медиапузыре (эхо-камере), а столкнулся с другим.
Культурный капитал, описанный П. Бурдьё, отражается в социальных сетях в форме лайков, репостов, комментариев, подписчиках и друзьях. Физическое тело, о котором писал М. Фуко, в социальных сетях выражено посредством визуального контента: фотографии, видео - все они становятся объектом контроля Других. Помимо этого, для Других и своих важными являются реакции говорящих субъектов на темы, связанные с гендерными отношениями, традиционными ценностями. Острые реакции с учетом правового измерения сказанного в социальных сетях, с одной стороны, усиливают контроль и самоконтроль говорящего субъекта (другие пользователи сети, модераторы группы, закон), с другой - формируют представление о норме и социальном одобрении.
Как следствие, можно выявить особенности социальных сетей как тотальных институтов с точки зрения политических процессов и явлений, связанных с мобилизацией и формированием общественного мнения по актуальным вопросам большой политики.
Алгоритмический контроль в Сети позволяет управлять тем контентом, который видят пользователи. Это своеобразный фильтр, определяющий восприятие говорящим субъектом получаемой информации. Каждая платформа, модерируя политические и квазиполитические нарративы, устанавливает степень доступности информации вне зависимости от ее правового статуса, то есть условно запрещенной может оказаться законная с нормативно-правовой точки зрения информация. Возможны и обратные варианты - это фактически массово используемые мессенджеры, которые являются запрещенными в РФ.
Процесс социализации в рассматриваемых сетях связан с формированием онлайн-идентич-ности. Помимо социально-психологического аспекта, выраженного в самореализации субъекта и взаимных ожиданиях пользователей, важным является вопрос идеологического дискурса, являющегося способом демаркации «своих» и «чужих». Квазиполитические высказывания и темы, на которые могут вестись споры в Сети, можно классифицировать в виде дихотомии «либерал - консерватор». Операционализация понятия «либерал» в данном контексте связана с семантическим рядом, включающим такие понятия, как «непатриот», «западник» и другие близкие по смыслу слова, указывающие на ценностный конфликт между субъектами и на сенситивность темы для всех говорящих субъектов. При потреблении интересующей пользователей Сети информации, каждый из них находится внутри своей эхо-камеры, в рамках взаимодействия с теми, кто разделяет его взгляды, что усиливает изоляцию субъекта от альтернативного мнения и формирует конспирологическое коммуникативное пространство. Феномен «группового мышления» гиперболизирован в утрате способности субъекта к критическому мышлению и выражения агрессивных безапелляционных точек зрения по квазиполитической повестке. С одной стороны, социальная сеть в таком случае сама порождает внутри себя тотальные институты, формируя виртуальное пространство по аналогии с обычным. С другой стороны, взаимоотношения пользователей социальных сетей, построенные на интернет-ресурсах, с представителями офлайн-мира, которые не используют цифровые источники, могут быть в глобальном виде представлены в терминах тотального института внутри социальной системы, члены которого видят мир по-разному, говорят фактически на разных языках, в том числе используют новояз, неясный для непосвященного субъекта.
Таким образом, при анализе социальных сетей обозначенные критерии тотальных институтов могут соединяться в разной степени выраженности и интенсивности. По сути, сама сеть, Сеть в глобальном смысле, которая вбирает в себя множество, казалось бы, удобных инструментов, дающих свободу субъекту, который их использует также внешне произвольно, представляет собой отдельные примеры тотальных институтов (мессенджеры, почты, хостинги, чаты, блоги, комментарии, компьютерные игры и прочее).
К признакам, на основе которых мы можем включить социальные сети (и социальные медиа как частный случай) в тотальные институты, относятся: замкнутое пространство, ритмизированное время, механизм надзора и регламентация телесных практик. Анонимный, виртуальный характер таких признаков умножает их силу в сравнении с функционированием классических тотальных социальных институтов, формирует более сложный и менее заметный механизм контроля.
Основной признак тотального института – его границы, закрытый характер, а также изменение идентичности в случае со спецификой современных площадок для коммуникации. Погружение говорящего субъекта в квазиполитическое пространство если и не ведет к необходимости занять однозначную позицию в споре, то как минимум обуславливает знакомство с черно-белым миром оценок, которые кажутся цветными. Для пользователей социальных сетей, в отличие от классических тотальных институтов, сохраняется иллюзия свободы принимаемых решений и выбора идентичности в условиях виртуального пространства. При этом социальная сеть может быть представлена как тотальный институт, в котором преобладает квазиполитическая коммуникация, наделяющая любое высказывание по любой теме политическим смыслом, способствующим делению субъектов на «мы» и «они».
Список литературы Социальные сети как современный тотальный институт
- Ван Дейк Т.А. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М., 2013. 344 с.
- Мирошниченко И.В. Сетевые механизмы формирования социальных и политических идентичностей современной молодёжи // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология. 2017. Т. 17, № 1. С. 92-97. DOI: 10.18500/1818-9601-2017-17-1-92-97 EDN: YIOOSV
- Морозова Е.В., Мирошниченко И.В. Институционализация социальной сети в сфере публичной политики (на примере кадетского движения в современной России) // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2011. № 4 (16). С. 97-111.
- Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. 448 с.
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 479 с.
- Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice. N. Y., 1995. 248 p.
- Goffman E. Asylums. The Essays on the Social Situation of the Mental Patients and Other Inmates. N. Y., 1961. 386 р.