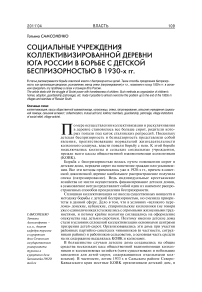Социальные учреждения коллективизированной деревни юга России в борьбе с детской беспризорностью в 1930-х гг
Автор: Самсоненко Татьяна Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 4, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается борьба советской власти с беспризорностью детей. Такие способы преодоления беспризорности как организация детдомов, усыновление, метод опеки (патронирования) и т.п. позволили к концу 1930-х гг. в основном преодолеть эту проблему в селах и станицах Юга России.
Коллективизация, кассы общественной взаимопомощи, колхозницы, опека, патронирование, сельские учреждения социальной помощи, сельский активист
Короткий адрес: https://sciup.org/170165770
IDR: 170165770
Текст научной статьи Социальные учреждения коллективизированной деревни юга России в борьбе с детской беспризорностью в 1930-х гг
П о мере осуществления коллективизации и раскулачивания в деревне становилось все больше сирот, родители которых попали под каток сталинских репрессий. Поскольку детская беспризорность и безнадзорность представляли собой явления, препятствовавшие нормальной жизнедеятельности колхозного социума, власти повели борьбу с нею. К этой борьбе подключались колхозы и сельские социальные учреждения, прежде всего кассы общественной взаимопомощи колхозников (КОВК).
Борьба с беспризорностью велась путем помещения сирот в детские дома, передачи сирот на попечение граждан или усыновления. Все эти методы применялись уже в 1920-х гг., причем в советской доколхозной деревне наибольшее распространение получила опека (патронирование). Ведь индивидуальные крестьянские хозяйства не могли осуществлять финансирование детских домов, а усыновление всегда представляет собой один из наименее распространенных способов преодоления беспризорности.
Сплошная коллективизация не внесла существенных новшеств в методику борьбы с детской беспризорностью, но сменила приоритеты в данной сфере. Дело в том, что в условиях «великого перелома» донские, кубанские, ставропольские колхозники (не говоря уже о единоличниках) столкнулись с огромными жизненными трудностями, и потому крайне неохотно соглашались на оформление опекунства над детьми-сиротами. Поэтому именно детские дома стали в условиях сплошной коллективизации основными центрами призрения детей-сирот. Организовывались эти дома при участии районных партийно-советских чиновников (в частности, сотрудников районо) и работников сельсоветов, а основная часть средств на их содержание выделялась КОВК и колхозами.
В большинстве случаев детские дома создавались на общие средства нескольких касс общественной взаимопомощи колхозников и коллективных хозяйств (хотя существовали и небольшие заведения для детей-сирот, содержавшиеся отдельными колхозами). В частности, летом 1933 г. в Сальском районе СевероКавказского края местные КОВК организовали детский дом, в котором насчитывалось 100 сирот1. В 1934 г. Ейская межрайонная касса взаимопомощи Азово-Черноморского края содержала «дом сирот», в котором находилось «42 человека безродных детей»2.
Созданию и налаживанию эффективного функционирования детских домов препятствовал дефицит средств, представлявший собой острейшую проблему для КОВК и колхозов в первой половине 1930-х гг. Многие детские дома на Юге России пытались улучшить ситуацию путем самообеспечения. Иногда работники КОВК и колхозные управленцы при содействии районного руководства пытались переложить функции финансирования детдомов на местный бюджет. Но такие попытки встречали резкую отповедь со стороны вышестоящих властных структур. Так, Азово-Черноморский крайком ВКП(б) 23 марта 1935 г. отклонил просьбу Ростовского райкома партии о финансировании колхозного детского дома за счет местного бюджета и подтвердил свое прежнее решение о том, что такие заведения должны содержаться исключительно коллективными хозяйствами3.
Во множестве районов и колхозов Дона, Кубани, Ставрополья детдома находились не в лучшем положении. В принятом 7 февраля 1936 г. постановлении СевероДонского окружкома ВКП(б) отмечалось, что в сельхозартели «Мировой Октябрь» Чертковского района «колхозный детдом (8 детей беспризорников) находится в исключительно бесхозяйственном и антисанитарном состоянии, дети-школьники [здесь] без обуви и не обеспечены пита-нием»4.
Власти, конечно, предпринимали меры по улучшению положения колхозных и межколхозных детдомов. В январском (1934 г.) постановлении Вешенского райкома ВКП(б), где перечислялись серьезные упущения и недостатки в обеспечении детей-сирот, излагалась и программа мер по улучшению сложившейся негативной ситуации. Райком постановил: «...под личную ответственность секретарей ячеек, пред.[седателей] с.с. (сельсоветов. – Авт.) и колхозов в 5-ти дневный срок создать все необходимые условия нормальной жизни детям. Обеспечить их теплым, чистым помещением, нормальным питанием, оборудованием, койками, постельными принадлежностями, одеждой, обувью, а также выделить лучших колхозников постоянными заведывающими интернатом, обеспечить посещение детьми школ»5.
Принимая во внимание неудовлетворительное функционирование многих детских домов, колоний, интернатов, представители большевистского руководства в середине 1930-х гг. решили полностью изменить приоритеты в методике борьбы с детской беспризорностью. Детские дома и другие подобные учреждения перестали рассматриваться в качестве основного средства призрения детей-сирот. Основной упор был сделан на опеку (патронирование) и усыновление детей.
Порядок патронирования, превратившегося в ведущий метод преодоления беспризорности, был определен в ряде нормативно-правовых актов. ВЦИК и СНК РСФСР 1 апреля 1936 г. приняли постановление, согласно которому патронирование (патронат) определялось как передача детей, не достигших возраста 14 лет, на воспитание в «семьи трудящихся». Воспитание детей в порядке патронирования продолжалось «до достижения патронируемым 15-летнего возраста»6.
В начале июня 1936 г. вышла инструкция Наркомпроса, Наркомздрава и Наркомсобеса, дополнявшая и уточнявшая порядок патронирования. В инструкции, в частности, отмечалось, что «на воспитание не отдаются дети в состоянии острых и хронических заразных заболеваний, а также умственноотсталые». Перед патронированием соответствующие органы должны были сначала обследовать ту или иную принимающую семью, дабы выяснить, способна ли она принять сироту на воспитание. Воспрещалось передавать детей в семьи, «где уплата за патронат являлась бы основным источником существования семьи»,
«где имеются алкоголики, наркоманы и т.п.». Указывалось, что в одну и ту же семью следовало передавать лишь одного ребенка (для братьев и сестер, однако, могло быть сделано исключение). Детей-сирот старше 14 лет предписывалось не патронировать, а трудоустраивать. Был определен размер пособия, выплачивавшегося опекуну: не менее 350 руб. деньгами и натурой в год на содержание одного ребенка1.
Основная доля расходов по содержанию детей-сирот в деревне ложилась на кассы взаимопомощи. По планам в 1936 г. КОВК разрешалось, «ввиду особой важности» борьбы с беспризорностью, увеличить расходы на содержание патронированных детей-сирот и оказание помощи детям временно нуждавшихся колхозников в среднем до 25 % от всех имевшихся средств2. Таким образом, финансирование патронажа превратилось в ведущую статью расходов КОВК. В последующие годы кассы общественной взаимопомощи колхозников Юга России продолжали тратить значительную часть накопленных ими материально-финансовых фондов на патронирование детей-сирот и содержание детских домов (которые, хотя и уменьшились в числе, все же продолжали функционировать). В первой половине 1939 г. кассы взаимопомощи колхозов Орджоникидзевского края передали на содержание детей-сирот 524 тыс. руб.3 По нормам 1940 г. КОВК Орджоникидзевского края тратили на обеспечение одного осиротевшего ребенка 525 руб., КОВК Ростовской области – 548 руб. В целом, в 1940 г. кассы взаимопомощи Ростовской области выделили в помощь детям-сиротам и детям колхозников, впавших в нужду, свыше 1,1 млн руб., что составляло более 25% от их общих расходов, оценивавшихся цифрой около 4 млн руб.4
Существенным тормозом патронирования выступало то, что колхозники уклонялись от официального оформления патронажа из-за неустойчивого положения своих хозяйств и особенно когда брали на воспитание детей, оставшихся без родителей вследствие раскулачивания. Иными словами, колхозников сдерживали как социально-политические (нежелание связываться с детьми «раскулаченных»), так и чисто материальные факторы (бедность). Причем вопреки общим цифрам (свидетельствующим о немалых расходах касс взаимопомощи в пользу сирот), многие КОВК не могли материально стимулировать потенциальных опекунов. В 1940 г. сотрудники Ростовского облсо-беса констатировали плохое снабжение патронированных детей промтоварами «в связи с неразрешенностью вопроса о порядке отпуска промтоваров для детей-сирот, т.к. на местах работники торговых организаций подходят к этому делу сугубо формально, отпуская промтовары на общих основаниях, в порядке живой очереди и т.п.»5.
В условиях, когда партийно-советское руководство требовало патронировать как можно больше детей-сирот, а многие колхозники уклонялись от этого из-за бедности или боясь брать в семью отпрысков «кулаков», КОВК оказались между молотом властной инициативы и наковальней крестьянской пассивности. Хорошо было тем кассам общественной взаимопомощи, которые функционировали в экономически развитых колхозах и могли материально заинтересовать колхозников брать детей-сирот на воспитание. Но подобный вариант оставался за пределами возможностей работников слабых КОВК (а таковых было немало на Юге России даже к исходу 1930-х гг.).
Понимая, что неудовлетворительное проведение патронирования вызовет гнев властей, и стремясь избежать наказания, некоторые работники финансово слабых КОВК искали компромиссы с сельскими жителями. Так, они закрывали глаза на то, что вместо патронирования колхозники практиковали при поддержке детей-сирот старый крестьянский способ очередности, когда о беспризорниках заботилась не одна семья, а вся деревня по очереди. Каждая семья кормила и содержала сироту на протяжении определенного периода времени (от двух-трех недель до года), передавая его по истечении этого срока своим соседям1. Еще одним компромиссным вариантом являлось помещение сразу нескольких детей в ту колхозную семью, которая изъявляла готовность оформить патронат. Соцработники и представители власти, разумеется, критиковали такие компромиссы. Например, относительно последнего варианта указывалось, что он противоречит законодательству (запрещавшему одному и тому же опекуну принимать в семью нескольких воспитанников, не являвшихся братьями и сестрами), а группа патронированных детей в одной семье является, по существу, «скрытым детдомом»2.
Добавим, что не всегда патронирование являлось для беспризорников лучшей долей по сравнению с детским домом. Конечно, в колхозной деревне наблюдалось немало случаев образцового воспитания детей-сирот. Но примеры действи- тельной заботы о сиротах соседствовали с нередкими случаями пренебрежения их нуждами. Даже добросовестное выполнение КОВК своих обязательств не всегда гарантировало патронированным детям обеспеченную жизнь. Протестуя против плохого обращения с ними, иные воспитанники бежали от опекунов.
К исходу 1930-х гг. патронирование превратилось в ведущий метод борьбы с беспризорностью в колхозной деревне Юга России при сохранении на втором плане других методов – детдомов, усыновления и т.п. Численность беспризорных детей в колхозной деревне Дона, Кубани и Ставрополья снижалась. В 1940 г. 1 372 кассы взаимопомощи Орджоникидзевского края содержали, по разным данным, от 3 284 до 3 398 детей-сирот, из которых был патронирован 2 491 ребенок и в детдомах содержались 907. Еще 17 детей были усыновлены, «выведено на самостоятельную работу по достижению совершеннолетия 386 детей»3. Как видим, к концу 1930-х гг. в селах и станицах Юга России насчитывалось гораздо меньше беспризорных детей, и проблема детской безнадзорности и беспризорности в колхозной деревне Юга России была в основном решена.