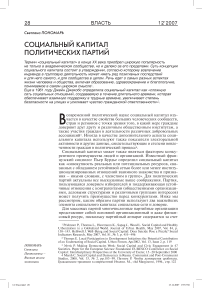Социальный капитал политических партий
Автор: Пономарь Светлана Пантелеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социальное государство
Статья в выпуске: 12, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170164053
IDR: 170164053
Текст статьи Социальный капитал политических партий
в современной политической науке социальный капитал изучается в качестве свойства больших человеческих сообществ, стран и регионов с точки зрения того, в какой мере граждане доверяют друг другу и различным общественным институтам, а также участия граждан в деятельности различных добровольных ассоциаций3. Иногда в качестве дополнительного аспекта социального капитала используют также показатели электоральной активности и другие данные, свидетельствующие о степени вовлеченности граждан в политический процесс4.
Социальный капитал может также являться фактором конкурентного преимущества людей и организаций. Известный французский социолог Пьер Б-урдье определил социальный капитал как «совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью более или менее институционализированных отношений взаимного знакомства и признания – иными словами, с членством в группе». Для политических партий актуальны все высказанные выше соображения. Партия, пользующаяся доверием избирателей и поддерживающая устойчивые отношения с контрагентами (общественными организациями, деловыми структурами и различными группами интересов) может получить преимущество перед конкурентами. Ниже мы рассмотрим, каким образом партии используют два важнейших элемента социального капитала: социальные сети и доверие.
Для массовых партий многочисленные партийные организации представляют собой основной организационный и даже финансовый ресурс, поскольку партийный аппарат содержится за счет
ПОНОМАРь Светлана Пантелеевна – Высшая школа экономики
членских взносов, а при проведении избирательных кампаний партии этого типа полагаются на трудозатратные методы коммуникации, такие, как кампания «от двери к двери». Кадровые партии не стремятся наращивать членскую базу, поскольку их финансирование обеспечивают бизнес-структуры, а в период избирательной кампании они доносят информацию до избирателей при помощи СМИ.
Показательнавэтомотношенииистория Лейбористской партии Великобритании, которая традиционно строила свою электоральную стратегию с опорой на профсоюзы и массовое членство в своих рядах британских рабочих. После серии поражений на парламентских выборах 1983, 1987 и 1992 годов партийное руководство во главе с Тони Б-лэром приняло решение освободиться от контроля со стороны профсоюзов и свести к минимуму роль партийных активистов левого толка. После этого сдвиг в центр политического спектра не вызвал для партии затруднений и принес ожидаемую победу. Успех британских лейбористов на выборах 1997 года считается классическим примером выхода политической партии из затяжного кризиса с помощью выбора верной политической стратегии. Однако в это же время (между 1990 и 1999 годами) радикально снизилась численность самой партии.
А-налогичные процессы сокращения «жесткого» партийного членства, предполагающего реальное вовлечение гражданина в деятельность партийной организации, были характерны с последних десятилетий ХХ века и для других крупных западноевропейских партий. Заметное снижение соответствующих показателей между 1980 и 2000 годами было зафиксировано во Франции, Италии, Великобритании, Норвегии, Финляндии, Голландии, А-встрии, Швейцарии, Швеции, Дании, Ирландии, Б-ельгии и Германии. Несмотря на то, что вопрос о тенденциях в развитии института партийного членства допускает противоречивые интерпретации, есть аспект проблемы, относительно которого мнения исследователей сходятся. Самые низкие уровни принадлежности к политическим партиям демонстрируют посткоммунистические страны и в особенности страны бывшего СССР-. В середине 90-х годов на вопрос социологов о принадлежности к политическим партиям положительно ответили 1,1% респондентов в Польше, 1,6% – в Украине, 1,8% – в Б-елоруссии, 1,9% – в Р-оссии, 2% – в Эстонии, 2,9% – в Молдове, 3,2% – в Литве и 3,3% – в Латвии. Для сравнения: в Индии на этот же вопрос ответили положительно 18,6% респондентов, в Швейцарии – 16,9%, в Швеции – 15,1%, в Б-разилии – 14,3%, в Южной Корее – 11,8%, в Финляндии – 9,8%, в А-встралии – 9,6%.
Как мы видим, в Р-оссии этот показатель сравнительно невелик. Б-ольшинство российских партий не обременено излишним социальным капиталом. Граждане редко вступают в политические партии и не идентифицируют себя с ними.
В настоящее время социальный капитал является важным фактором стабилизации российской партийной системы. Однако именно те аспекты социального капитала, на которые опираются российские политические партии, не помогают, а скорее препятствуют завершению процесса демократизации нашей страны.
Целый ряд исследователей придерживается точки зрения, что социальный капитал оказывает не только позитивное, но и негативное воздействие на процесс посткоммунистической общественной трансформации. Некоторые авторы акцентировали внимание на том обстоятельстве, что социальные сети в посткоммунистических странах часто объединены антиобщественными интересами. «Посткоммунистические сети, – утверждает немецкий исследователь М. Татур, – могут пониматься как форма проявления точной противоположности гражданского общества. Они – в институциональной преемственности номенклатуры – основаны на персональной лояльности и оппортунизме и имеют своей целью осуществление частных интересов».
В политике преобладающая роль социальных сетей может означать, что формальные политические институты приобретают имитационный и фасадный характер. Так, партийная конкуренция становится малозначимой, если все властные рычаги находятся в руках неформальной группы, объединенной вокруг лидера. До последнего времени губернатор в российском регионе мог назначать «своих» людей курировать различные политические партии, формально кон- курирующие друг с другом. Один вицегубернатор отвечал за «Е-диную Р-оссию», второй за «Справедливую Р-оссию», а третий – за КПР-Ф. Но если какая-то региональная партийная организация выходила из-под контроля губернатора и переориентировалась на мэра большого города или на крупного предпринимателя, то конкуренция становилась реальной и даже очень острой. Проблема в том, что это была конкуренция между кланами, слегка закамуфлированная идеологическими различиями партийных программ.
Иначе говоря, критики подвергли сомнению благотворную роль, выполняемую в условиях посткоммунистической трансформации одним из основных элементов социального капитала – социальными сетями. Но и более существенный аспект этого феномена, а именно доверие, также не остался без критического анализа.
Б-ританские политологи Н. Летки и Дж. Иванс поставили под вопрос традиционную объяснительную схему, согласно которой успешность демократизации зависит от уровня доверия граждан к политическим институтам. Согласно их точке зрения данная логика в условиях посткоммунистической трансформации не работает. Скорее наоборот: успешная демократизация порождает эффективные политические и экономические институты, которым граждане могут доверять. Это доверие затем способствует росту политического участия.
Б-ольшинство исследователей считают само собой разумеющимся, что в посткоммунистических странах уровень доверия граждан по отношению к политическим институтам не может быть высоким. Политические институты коммунистической эпохи полностью дискредитировали себя в глазах большинства населения, а период становления новых институтов пришелся на эпоху трансформационного экономического спада.
Применительно именно к политическим партиям мы можем выделить два аспекта социального капитала, препятствующие формированию по-настоящему конкурентной и стабильной партийной системы и один аспект, оказывающий позитивное воздействие на этот процесс.
Опора на вертикально интегрированные сетевые структуры патронатно-кли-ентельного типа, несомненно, вредит демократизации российской политики, а также формированию стабильного партийного спектра. Многочисленные взлеты и падения различных «партий власти» в посткоммунистической Р-оссии убедительно демонстрируют угрозы, связанные с реализацией подобной электоральной стратегии.
Второй аспект социального капитала, оказывающий негативное воздействие на российскую партийную политику, – чрезмерное доверие к партийным лидерам.
Таким образом, опора на вертикальные и неформальные социальные сети, а также доверие к лидерам мы можем отнести к числу негативных аспектов социального капитала.
Однако существует и позитивный аспект этого феномена, возникающий в случае, когда партия опирается на так называемые сильные ослабленные связи (если использовать терминологию американского социолога Марка Грановеттера)1. Р-ечь идет о разреженных социальных сетях, объединенных общими интересами и не слишком плотным общением. В разреженных социальных сетях друзья одного человека, как правило, не знают друг друга. Но в этих сетях взаимодействие обычно обусловлено наличием общих интересов.
Таким образом, социальный капитал является фактором, оказывающим противоречивое, но весьма существенное воздействие на процесс формирования российской партийной системы. Можно ожидать, что по мере укрепления гражданского общества, в особенности органов местного самоуправления, а также развития региональных и территориальных общественных и некоммерческих организаций воздействие негативных аспектов этого феномена будет ослабе вать, а пози тивных – усиливаться.
Список литературы Социальный капитал политических партий
- Pridmore P., Thomas L., Havemann К., Sapag J., Wood L. Social Capital and Healthy Urbanization in a Globalized World. Journal of Urban Health, May 2007, Vol. 84, p. 130-143.
- Helliwell J. Weil-Being and Social Capital: Does Suicide Pose a Puzzle? Social Indicators Research, May 2007, Vol. 81, № 3, p. 455-496
- Thomas E. Local Participation in Development Initiatives: the Potential Contribution of an Understating of Social Capital. Urban Forum, Apr2002, Vol. 13, Issue 2, p. 119
- №rris P. Making Democracies Work: Social Capital and Civic Engagement in 47 Societies. Paper for the European Science Foundation EURESCO Conference on Social Capital: Interdisciplinary Perspectives at the University of Exeter, 15-20 September 2000
- Marsh C. Social Capital and Democracy in Russia. Communist and Post-Communist Studies, 2000, Vol. 33, № 2, pp. 183-99.
- Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М., «Ad Marginem», 1996., стр. 122
- Gra№vetter M. The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. Sociological Theory, 1983, Volume 1, p. 201-233