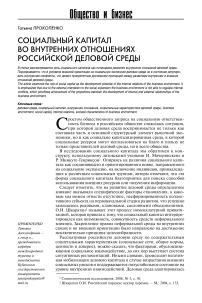Социальный капитал во внутренних отношениях российской деловой среды
Автор: Прокопенко Татьяна Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Общество и бизнес
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль социального капитала как потенциала развития внутренних отношений деловой среды. Подчеркивается, что в условиях внешней ориентации на социальную экспансию деловая среда не в состоянии регулировать внутренние конфликты, что делает приоритетным достижение пропорций между развитием внутренних и внешних отношений деловой среды.
Деловая среда, социальный капитал, внутренние отношения, социетальные характеристики деловой среды
Короткий адрес: https://sciup.org/170166257
IDR: 170166257
Текст научной статьи Социальный капитал во внутренних отношениях российской деловой среды
С ростом общественного запроса на социальную ответственность бизнеса в российском обществе сложилась ситуация, при которой деловая среда воспринимается не только как составная часть и основной структурный элемент рыночной эко -номики, но и как социально капитализированная среда, в которой социальные ресурсы могут использоваться на благо и пользу не только представителей деловой среды, но и всего общества.
В исследовании социального капитала мы обратимся к кон -структу, используемому литовскими учеными И. Мачеринскене и Р. Минкуте-Генриксон1. Опираясь на различия социального капи-тала как соединяющего и ориентированного вовне, направленного на социальную экспансию, на включение индивидов, принадлежа щих к различным социальным группам, авторы отмечают, что эта форма социального капитала благоприятна для поиска способов использования внешних ресурсов или получения информации.
Следует отметить, что на развитие деловой среды определенное влияние оказывали специфические факторы становления, к како вым мы можем отнести отсутствие, несформированность коллек тивного субъекта на первоначальной стадии развития, что успешно замещалось родовыми, клановыми, сословными объединениями. О.И. Шкаратан2 называет этот процесс номенклатурной привати-зацией, которая привела к тому, что социальный капитал интерпре-тировался как возможность, совокупность средств неформального влияния. Закрепление правил неформальной среды во внутренних связях и во внешней ориентации было направлено на достижение исключительно принципа целесообразности.
Рассматривая российскую деловую среду по содержательным социетальным характеристикам (социальные сети, общие нормы, ценности и доверие), можно сказать, что факторами, обусловлива-ющими социальное взаимодействие, до сих пор выступает система ситуативных регламентаций. Иными словами, происходит негатив -ная мобилизация делового капитала в случае возрастания внешних социальных рисков и поддерживается полустабильное состояние на уровне внутренних взаимодействий. Деловая среда адаптировалась к социальной вертикально интегрированной иерархизированной системе общественных отношений путем сокращения горизонтальных связей, которые не могут являться эффективными в системе социального субдоминирования.
Эффект социальных сетей в качестве заимствованной инновации, безусловно, влияет на уровень структур, работающих в системе интертехнологий, что связано со спецификой расширения крупных клиентов. Традиционные структуры (кампании) в этом отношении «проседают», поскольку сеть предлагает иную форму социального взаимодействия, ориентированную на включение инновационных механизмов. Социальная капитализация российской деловой среды отстает от ее экономической составляющей, что выражается в том, что до сих пор не сформировалась система общих норм и ценностей, которые бы выступали мощным социально мобилизующим и социально консолидирующим ресурсом в отношениях с обществом
На каких же условиях и правилах тогда основывается социальное взаимодействие? Можно сказать, что мы имеем дело с тремя сегментами деловой среды. Первый связан с созданием социально инновационных структур, ориентированных на воспроизводство и преумножение социального капитала, что повышает заинтересованность индивидов в его использовании. Второй – с тем, что социальный капитал деформализован, ограничивается доверием на социальном макроуровне. Общие нормы и убеждения поощряют внутрикорпоративное сотрудничество, но недостаточны, не дотягивают до уровня горизонтального взаимодействия. Третий, так называемый стихийный, уровень представлен мелким и средним бизнесом, в котором ценности носят партикулярный характер и могут быть иллюстрированы моделью «полюбовного соглашения».
Одновременно нормы взаимного сотрудничества поощряют к определенному сопротивлению неблагоприятным взаимодействиям внешней среды, но деловая среда в целом слабо реагирует на всеобщие интересы, ограничиваясь требованиями недопущения давления государства. Здесь следует учитывать исторический момент, связанный с тем, что в российском обществе бизнес имеет традиции противопоставления социальным обязательствам, что российская деловая среда унаследовала традиции теневой, цеховой культуры, которая, не имея самостоятельной субъектности, была интегрирована в систему плановой экономики, а часто и паразитировала на ней.
Также следует учитывать, что сам процесс формирования деловой среды в какой-то степени был «искусственным» и отвечал в большей степени политическим запросам, а не логике экономического развития, в результате чего возникли сверхмонополисты и масса мелких структур, не имеющих самостоятельных социальных ресурсов и до сих пор находящихся в режиме выживания или сохранения достигнутых позиций.
Таким образом, сегментированность деловой среды, разрывы, связанные с отсутствием социального сетевого взаимодействия, привели к тому, что сегменты деловой среды (инновационный, в частности) в большей степени склонны к взаимодействию поодиночке, к решению проблем вне формирования запроса на сотрудничество. Кроме того, на состояние деловой среды действуют формальные институции, которые многим кажутся более полезными и эффективными, нежели ожидание до сих пор не возникших общих ценностей и норм.
Российская деловая среда накопила достаточные социальные ресурсы теневого взаимодействия, при которых политика неформальных сделок и компромиссов успешна, но по принципиальным, мейнстримовым вопросам социального сотрудничества не проявляет необходимой активности, которая бы позволила выявить влияние внешних и общественнополитических факторов на состояние деловой среды и, исходя из этого, выстраивать собственную бизнес-стратегию. Иными словами, не выработана концепция стратегического менеджмента, и анализ окружающей среды ограничивается рамками взаимодействия с государственными институтами и в меньшей степени – с зарождающимся, возникающим в России гражданским обществом.
Взаимоотношения между деловым сообществом как субъектом деловой среды и государством строятся по формуле взаимного невмешательства, в то время как эта схема уже перестает действовать в условиях возрастания социальной ответственности и реагирования на глобальные и внутристрановые вызовы. В частности, российская деловая среда отличается неравномерной концентрацией ресурсов в столичных центрах и неразвитостью реги -ональной социальной инфраструктуры.
Между тем, социальный капитал выяв-ляет социально символическую значи мость в условиях создания более или менее равномерного распределения. Динамика настроений жителей Сибири и Дальнего Востока свидетельствует о том, что они во все большей степени воспринимают рос -сийское государство как несправедливое, ощущают себя заброшенными, отданными на произвол судьбы, что идея о выкачке ресурсов и асимметричности отношений овладевает умами и массовыми настрое ниями в пользу умеренно регионалист ских интенций.
Внутренние отношения российской деловой среды не конвертировались в состояние взаимного сотрудничества, по скольку очень различны, разноориентиро ваны интересы столичного и провинциаль ного бизнеса, который разделяется, диф ференцируется, в условиях охватывающей направленности социального капитала не стимулирует, не способствует развитию соединяющих связей и консолидации как внутри делового сообщества, так и по отно шению к различным социальным группам, способным сформировать базу для эконо-мической и социальной модернизации.
Характерно, что стоящий на «вторых» позициях (14%) по уровню приоритетов, как выяснено в исследовании «Готово ли российское общество к модернизации?»1, запрос на развитие инновационной эко номики является следствием недоверия общества к позитивным интенциям дело вого сообщества, к его заинтересованно сти работать на осуществление всеобщих целей.
Для того чтобы лучше понять, в каких условиях действует российская деловая среда, нельзя ограничиваться констата цией известных представлений о давлении на бизнес. В большей степени проявля ется тенденция закрепления неформаль ных правил при поддержке формальных институций.
Речь идет о том, что субъекты деловой среды не обеспечивают своим поведе нием доверие граждан2. Если мы можем говорить о нарастании структур но го социального капитала, идентифицируе мого в иерархии социальных позиций субъектов социальной среды по класси фикации «крупный, средний и мелкий бизнес», когнитивная составляющая, о которой пишут литовские ученые, не выражается в знаниях о нормах, ценно стях, взглядах, убеждениях, способству ющих не только сотрудничеству, но и идентификации деловой среды. Иными словами, в российской деловой среде есть негативная идентичность, отделяю щая ее от общества по принципу «свой — чужой», но слабо выработана иденти-фикация, связанная с пониманием дру гих как партнеров в качестве субъектов социального взаимодействия и в страте гическом аспекте социального сотруд ничества.
Очевидно, что состояние социального капитала российской деловой среды, не обладая достаточным уровнем доверия как фундаментального уровня, перемещается в формально структурную сферу, что ведет к возрастанию роли формальных регуля торов, ориентированных на закрепление, обособление и поддержание социальной стагнации. Во - первых, социальный капи -тал постоянно подвергается конвертации в формальные нормы. Во - вторых, отме -ченные инициативы делового сообщества чаще всего исходят из получения необхо димых, а иногда и чрезмерных социаль ных преимуществ. В-третьих, российская деловая среда закрепляет состояние эго центризма, в котором коллективные инте ресы вырастают из стремления к экономи -ческой и социальной монополии, и если и создают чувство общности и солидар-ности, то в качестве инструмента воздей ствия на общество как объект корыстного интереса. В - четвертых, не происходит преумножение социального капитала, по скольку вкладываемые в него инвестиции воплощаются только в состоянии опреде ленных субъектов и не ведут к коренной перестройке социальных отношений вну три деловой среды.
Отмеченные критические замечания вовсе не свидетельствуют о том, что практически невозможно оценить влия ние социального капитала на рост и раз витие деловой среды, но характеризуют тенденцию перевода социальных ресур сов в генерирование конфликтности и неравновесности деловой среды.