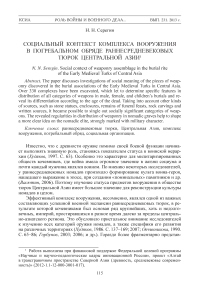Социальный контекст комплекса вооружения в погребальном обряде раннесредневековых тюрок Центральной Азии
Автор: Серегин Н.Н.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 231, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются исследования социального смысла орудий, обнаруженных в погребальных объединениях раннемелых тюрков в Центральной Азии. Было раскопано более 330 комплексов, что позволило определить особенности распределения всех категорий оружия в мужских, женских и детских захоронениях и выявить его дифференциацию в зависимости от возраста мертвых. Принимая во внимание другие источники, такие как каменные статуи, ограждения, остатки похоронных праздников, наскальные рисунки и письменные источники, стало возможным выделить социально значимые категории оружия. Выявленные закономерности в распространении оружия в кочевых могилах помогают сформировать более четкую идею о кочевой элите, сильно обозначенной военным характером.
Раннесредневековые тюрки, центральная азия, комплекс вооружения, погребальный обряд, социальная организация
Короткий адрес: https://sciup.org/14328566
IDR: 14328566
Текст научной статьи Социальный контекст комплекса вооружения в погребальном обряде раннесредневековых тюрок Центральной Азии
Эффективный комплекс вооружения, несомненно, являлся одной из важных составляющих успешной военной экспансии раннесредневековых тюрок, в результате которой кочевниками был основан ряд крупнейших, хоть и недолговечных, империй, простиравшихся в разное время далеко за пределы центрально-азиатского региона. Это обусловило пристальное внимание исследователей к изучению всех категорий оружия номадов, а также специфики его развития на различных территориях (Худяков, 1986. С. 137–169; 2007; Овчинникова, 1990. С. 65–86; Горбунов, 2003; 2006; и др.). Гораздо более фрагментарно представ- лены вопросы, связанные с реконструкцией социальной значимости предметов вооружения и определением их места в представлениях раннесредневековых тюрок Центральной Азии. В настоящей работе представлен опыт решения ряда таких вопросов.
Исследование основано на анализе результатов раскопок более чем 330 погребений раннесредневековых тюрок на территории Алтая, Тувы и Минусинской котловины. Для конкретизации отдельных аспектов работы привлекались синхронные материалы из памятников Монголии, Казахстана и Средней Азии. Исследование значимости предметов вооружения в погребальном обряде раннесредневековых тюрок Центральной Азии потребовало формирования специальной выборки, которую составили 204 захоронения. Основными факторами в ходе отбора памятников из общего количества известных на сегодняшний день могил стали степень сохранности комплекса, а также возможность определения пола умершего, что является необходимым условием для полноценного исследования в указанном направлении.
Для выявления и конкретизации закономерностей распространения предметов вооружения раннесредневековых тюрок был проведен статистический анализ, который позволил обозначить встречаемость конкретных находок в захоронениях лиц обоих полов, а также в детских могилах (табл. 1). В составе предметов вооружения выделены следующие группы изделий: 1) лук; 2) железные наконечники стрел; 3) клинковое оружие (боевой нож, кинжал, меч); 4) топор; 5) копье; 6) доспех.
Оружие зафиксировано в абсолютном большинстве мужских погребений раннесредневековых тюрок Центральной Азии – 124 (93,23%). Оно отсутствовало только в 9 (6,76%) могилах. Насыщенность захоронения предметами вооружения определялась, главным образом, не возрастом, а заслугами и профессиональным статусом умершего воина. К примеру, в ряде случаев в могилах молодых людей 16–20 лет зафиксировано несколько различных категорий рассматриваемых предметов ( Кубарев , 1992; Могильников , 1997). Не исключено некоторое снижение статуса пожилых (более 55 лет) мужчин, что нашло отражение в сокращении количества обозначенных вещей, отсутствии оружия ближнего боя и др. ( Комарова , 1973. С. 208; Кирюшин и др. , 2005). С другой стороны, то, что предметы вооружения зафиксированы в ряде погребений лиц этой возрастной группы ( Гаврилова , 1965. С. 66–67; Нестеров, Худяков , 1979. С. 88–90), свидетельствует о сохранении ими определенного статуса.
Предметы вооружения, а именно кинжалы, зафиксированы только в двух (5%) женских погребениях тюркской культуры, раскопанных на территории Са-яно-Алтая. В трех детских могилах обнаружены железные наконечники стрел. Таким образом, наличие оружия в захоронении является одним из существенных показателей половой и возрастной принадлежности умерших.
Корректное определение социальной значимости предметов вооружения в представлениях раннесредневековых тюрок Центральной Азии не может быть интуитивным или основываться только на рассмотрении частоты встречаемости находок в погребениях. Необходимы учет комплекса показателей и привлечение дополнительных источников и материалов. Особое значение в этом плане имеет изучение каменных изваяний, зачастую демонстрирующих облик представите-
Таблица 1. Распространение предметов вооружения в погребениях раннесредневековых тюрок Центральной Азии
Известно, что предметы вооружения являлись одним из наиболее значимых атрибутов воина-кочевника. При этом среди них выделяются вещи, имевшие особый статус благодаря целому комплексу представлений, связанных с их использованием. В первую очередь следует обратить внимание на социальную значимость клинкового оружия ближнего боя. Особый культурный статус сабли, меча и кинжала в эпоху средневековья подтверждают многочисленные свидетельства письменных источников среднеазиатского происхождения ( Дмитриев , 2001). Такие предметы являлись символом оружия и атрибутом власти военачальника у многих народов Евразии различных исторических периодов ( Распопова , 1980. С. 79; Измайлов , 2008. С. 39; Кочкаров , 2010. С. 157; и мн. др.). Вполне показательными являются сведения о том, что меч был среди атрибутов, выделявших элиту общества Золотой Орды из состава остального населения ( Селезнев , 2009. С. 21). Обратим внимание на то, что кинжал в раннем средневековье рассматривался не только как предмет вооружения, но также как элемент костюма и отличительный знак ранга знатного воина ( Распопова , 1980. С. 79; Овчинникова , 1990. С. 83). Дополнительным подтверждением этому является упоминание о кинжале как о поясном украшении тюрок, содержащееся в китайских династийных хрониках ( Лю Маоцай , 2002. С. 19).
Особое символическое значение имел также боевой топор, рассматривавшийся, по всей видимости, как знак власти военачальника ( Распопова , 1980. С. 76; Кубарев , 1992. С. 32; 2005. С. 99). К примеру, на одном из произведений пенджикентской живописи зафиксировано изображение царя без доспеха, но с топором ( Распопова , 1980. С. 76). Редкие изображения знатных воинов с боевым топором известны на петроглифах раннего средневековья, обнаруженных в различных районах центрально-азиатского региона ( Кляшторный , 2001. С. 214; Жолдошов , 2005. С. 72).
Несомненно, ценным предметом воинского снаряжения являлся защитный доспех. Значимость данного элемента паноплии в значительной степени определялась сложностью и трудоемкостью его изготовления. В том числе поэтому тяжеловооруженная конница была элитным родом войска кочевников и формировалась из представителей наиболее знатных родов общества. Отметим, что такая ситуация характерна не только для эпохи средневековья, но и для более раннего времени ( Бобров, Худяков , 2005. С. 95, 97; Худяков , 2007. С. 119).
Судя по имеющимся сведениям, особый статус в обществе раннесредневековых номадов имело копье. Такие изделия нередко фиксируются при исследовании наскальных изображений. При этом зачастую на копьях, находящихся в руках конных воинов, присутствуют дополнительные элементы – бунчуки и небольшие флажки ( Советова, Мухарева , 2005. С. 94). Известно, что такие атрибуты являлись отличительным признаком знатных воинов, командующих подразделениями различного уровня ( Окладников , 1951. С. 151–153; Бобров, Худяков , 2005. С. 116–117). Кроме того, имеется информация о том, что бунчуки, знамена или штандарты в раннем средневековье представляли собой символ властных полномочий и использовались для подтверждения статуса послов при ведении переговоров ( Худяков , 2011. С. 294–295).
Одним из эффективных подходов при социальной интерпретации вещей из памятников конкретных обществ является выделение из совокупности предметов сопроводительного инвентаря «комплекса власти», включающего показатели военно-управленческого могущества и политического статуса, и «комплекса богатства», объединяющего признаки высокого имущественного положения, материального достатка. Такой подход, опыт теоретического осмысления и практической реализации которого представлен в ряде исследований ( Васютин , 1998. С. 18; Матренин, Тишкин , 2005. С. 179), позволяет не только корректно обозначить значимость конкретных групп изделий, но также на последующих этапах работы способствует осуществлению объективной интерпретации как отдельных погребений, так и выделенных групп объектов.
Проведенный анализ памятников тюркской культуры с привлечением дополнительных источников позволяет утверждать, что «комплекс власти» в обществе раннесредневековых кочевников был представлен, главным образом, предметами вооружения (Серегин, 2011). Оружие дистанционного боя (лук и стрелы) являлось весьма распространенным и не маркировало погребения знатных воинов. Показателем высокого статуса умершего было наличие в захоронении меча, кинжала и копья. Имеются все основания для того, чтобы предполагать высокую степень распространения обозначенных предметов в раннем средневековье. В письменных источниках нередки упоминания об использовании мечей, кинжалов и копий как стандартного для тюркских воинов оружия (Худяков, 2007. С. 115–117). Мечи и кинжалы широко представлены на реалистичных каменных изваяниях, изображавших знатных кочевников (Грач, 1961. С. 63–64; Кубарев, 1984. С. 39–42; и др.). Копья являются непременным атрибутом конных воинов на петроглифах раннего средневековья (Горбунов, 1998; Черемисин, 2004; и др.). При этом многие всадники облачены в защитный доспех. На наш взгляд, обоснованным является предположение о том, что исключительность рассматриваемых предметов в погребениях раннесредневековых тюрок Центральной Азии обусловлена не ограниченностью их распространения и использования, а тем, что они помещались только в могилы людей, имевших при жизни высокий статус2.
Несколько иначе выглядит ситуация с использованием в раннем средневековье боевых топоров. Не исключено, что применение их тюрками в ходе военных действий было ограниченным, и данные предметы стали рассматриваться как некий символ власти. Особое значение топоров косвенно подтверждается обнаружением их в составе «кладов» ( Кирюшин, Кунгуров, Степанова , 1995; Кочеев , 1999).
Довольно специфичным является распространение в погребальных комплексах раннесредневековых тюрок защитного доспеха. Прежде всего, обратим внимание на то, что такие изделия представлены в большинстве случаев сравнительно небольшими фрагментами, что может свидетельствовать об их ценности. Кроме того, части панциря встречены в «стандартном» погребении только однажды ( Кубарев , 2002). В остальных случаях фрагменты защитного доспеха зафиксированы в кенотафах, каменных оградках и «ритуальных» курганах ( Серегин , 2008. С. 148). В данном случае помимо социальной значимости рассматриваемых предметов очевидна и другая их функция. В качестве предположения обратим внимание на возможность того, что фрагменты доспеха могли являться своего рода символической «заменой» отсутствовавшего человека в обозначенных погребально-поминальных комплексах. Похожая тенденция, хоть и не столь последовательно, прослеживается и в распространении другого предмета вооружения – наконечников копий. Такие находки, крайне редко обнаруживаемые в погребениях раннесредневековых тюрок, неоднократно зафиксированы при исследовании кенотафов ( Кубарев , 2005. Табл. 73, 10 ; 145, 1 ) и, особенно, каменных оградок на различных территориях ( Соенов, Эбель , 1996. Рис. 3, 2 ; Загородний, Григорьев , 1998. Рис. 3, 22 ; Досымбаева , 2006. Рис. 8, 4 ; и др.). Весьма своеобразная ситуация зафиксирована при исследовании центральной оградки комплекса Жайсан 1, где вотивная модель копья была изготовлена из панцирной пластины ( Досымбаева , 2006. Фото 9). Нельзя исключать, что определенные отголоски данной традиции отражены в этнографических сведениях о погребально-поминальном обряде киргизов и казахов, у которых копье, наряду с лошадью и одеждой, выполняло роль временного «заместителя» умершего человека ( Фиельструп , 2002. С. 134, 166–167, 178–179).
Подчеркнем, что одним из факторов, позволяющих отнести обозначенные предметы вооружения к социально значимым элементам вещевого комплекса раннесредневековых тюрок Центральной Азии, является изучение тенденций их распределения в погребениях. Помимо редкости рассматриваемых находок, существенным показателем в этом отношении можно считать то, что мечи, кинжалы, копья, боевые топоры и фрагменты доспеха в абсолютном большинстве случаев зафиксированы в могилах с «богатым» сопроводительным инвентарем.
Интересные результаты получены в ходе моделирования социальной структуры населения раннесредневековых тюрок (Серегин, 2012). Достаточно четко вы- делились несколько групп погребений, принадлежавших, судя по зафиксированным показателям, профессиональным воинам, командовавшим подразделениями различного уровня. Значительная часть элиты кочевников была связана с военным делом. Это подтверждается присутствием большого количества различных категорий оружия в «богатых» захоронениях тюркской культуры. Вместе с тем, анализ материалов раскопок погребальных комплексов показал, что элита кочевников была представлена также населением, не связанным непосредственно с военным делом, но вместе с тем сосредотачивавшим в своих руках определенные управленческие функции. Данный тезис находит косвенное подтверждение и в результатах изучения каменных изваяний раннего средневековья. Значительная часть таких памятников изображает знатных воинов с клинковым оружием, демонстрирующим их статус. Однако выделяется достаточно многочисленная группа изваяний, на которых отсутствуют какие-либо предметы вооружения. По мнению некоторых исследователей, такие объекты создавались в честь представителей невоенной прослойки тюркского общества – чиновничества, людей, близких к правящей военной верхушке, но не занимающихся непосредственно военным делом (Шер, 1966. С. 59). Рассмотренные материалы демонстрируют сложность организации общества кочевников и специфику профессиональной дифференциации номадов раннего средневековья.
Итак, изучение особенностей распространения предметов вооружения в погребальных комплексах раннесредневековых тюрок показало, что такие находки являются отличительным показателем захоронений мужского населения. Зафиксированные традиции расположения рассматриваемых изделий в могиле в большинстве случаев определялись особенностями их ношения людьми при жизни. Распространение различных групп оружия в памятниках раннесредневековых тюрок Центральной Азии, помимо выявленного половозрастного фактора, было обусловлено социальной значимостью конкретных категорий предметов. Анализ результатов раскопок погребальных комплексов с привлечением дополнительных источников и материалов позволил обосновать особый статус клинкового оружия, боевого топора, копья и защитного доспеха в представлениях кочевников. Сделанные выводы были подтверждены и расширены в ходе моделирования структуры общества раннесредневековых тюрок, продемонстрировавшего сложность организации объединений номадов и существование в социуме кочевников нескольких элитных групп, одни из которых были связаны с военным делом, а другие сосредоточили в своих руках определенные управленческие функции. Полученные результаты показали, что дальнейшее изучение комплекса представлений, связанных с использованием предметов вооружения, не только позволит более детально представить специфику мировоззрения номадов, но и будет способствовать расширению имеющихся представлений об организации общества раннесредневековых кочевников.
Список литературы Социальный контекст комплекса вооружения в погребальном обряде раннесредневековых тюрок Центральной Азии
- Бобров Л.А., Худяков Ю.С., 2005. Военное дело сяньбийских государств северного Китая в IV-VI вв. н. э.//Военное дело номадов Центральной Азии в сяньбийскую эпоху: Сб. науч. тр./Отв. ред. Ю.С. Худяков. Новосибирск: НГУ С. 80-200.
- Васютин С.А., 1998. Социальная организация кочевников Евразии в отечественной археологии: Автореф. дис.... канд. ист. наук: 07.00.06. Барнаул. 23 с.
- Васютин С.А., 2006. Культ воина-героя («мужа-воина») и его религиозные мотивы в кочевых обществах древнетюркской эпохи//Сибирь на перекрестье мировых религий: Мат-лы Третьей межрегион. конф./Отв. ред. В.И. Молодин. Новосибирск: НГУ С. 79-82.
- Гаврилова А.А., 1965. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука. 146 с.
- Горбунов В.В., 1998. Тяжеловооруженная конница древних тюрок (по материалам наскальных рисунков Горного Алтая)//Снаряжение верхового коня на Алтае в ранний железный век и средневековье/Отв. ред. Ю.Ф. Кирюшин, А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. С. 102-128.
- Горбунов В.В., 2003. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Ч. I: Оборонительное вооружение (доспех). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 174 с.
- Горбунов В.В., 2006. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Ч. II: Наступательное вооружение (оружие). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 232 с.
- Грач А.Д., 1961. Древнетюркские изваяния Тувы: по материалам исследований 1953-1960 гг. М.: Изд-во восточной литературы. 94 с.
- Дмитриев С.В., 2001. К вопросу о культурном статусе холодного оружия в традиционной культуре народов Средней Азии//Евразия сквозь века: Сб. науч. тр., посвящ. 60-летию со дня рожд. Д.Г. Савинова/Отв. ред. И.Я. Фроянов, С.Н. Астахов. СПб.: Филологический факультет СПбГУ С. 234-237.
- Досымбаева А., 2006. Западный Тюркский каганат. Культурное наследие казахской степи. Алматы: Туркi мурасы. 168 с.
- Жолдошов Ч.М., 2005. Изображение вооружения в средневековых петроглифах Кыргызстана//Материалы и исследования по археологии Кыргызстана: Сб./Отв. ред. В.А. Кольченко, B. Г. Ротт. Вып. I. Бишкек: Илим. С. 67-74.
- Загородний А.С., Григорьев Ф.П., 1998. Дополнительные данные о могильнике Иссык//Вопросы археологии Казахстана: Сб. науч. ст./Отв. ред. З. Самашев. Вып. II. Алматы; М.: Гылым. C. 117-123.
- Измайлов И.Л., 2008. Защитники «Стены Искандера»: Вооружение, военное искусство и военная история Волжской Булгарии X-XIII вв. Казань: Татарское кн. изд-во. 206 с.
- Кирюшин К.Ю., Кондрашов А.В., Семибратов В.П., Силантьева М.М., Терехина Т.А., 2005. Исследование памятников древнетюркского времени на территории Бирюзовой Катуни в 2005 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий/Отв. ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодин. Т. II. Ч. 1. С. 339-343.
- Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., Степанова Н.Ф., 1995. Археология Нижнетыткескенской пеще-ры-I (Алтай). Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та. 150 с.
- Кляшторный С.Г., 2001. Всадники Кочкорской долины//Евразия сквозь века: Сб. науч. тр., посвящ. 60-летию со дня рождения Д.Г Савинова/Отв. ред. И.Я. Фроянов, С.Н. Астахов. СПб.: Филологический факультет СПбГУ. С. 213-215.
- Комарова М.Н., 1973. Тюркское погребение с конем в Аржане//Уч. зап. ТНИИЯЛИ. Вып. XVI. С. 207-210.
- Кочеев В.А., 1999. «Клад» с верховьев реки Большой Яломан (Горный Алтай)//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: Мат-лы науч.-практ. конф./Отв. ред. Ю.Ф. Кирюшин. Вып. 10. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та. С. 175-177.
- Кочкаров У.Ю., 2010. Кинжалы Северо-Западного Предкавказья VIII-X вв.//РА. № 1. С. 157-160.
- Кубарев В.Д., 1984. Древнетюркские изваяния Алтая. Новосибирск: Наука. 230 с.
- Кубарев В.Д., 1992. Палаш с согдийской надписью из древнетюркского погребения на Алтае//Северная Азия и соседние территории в средние века: Сб. науч. тр./Отв. ред. В.Е. Ларичев. Новосибирск: Наука. С. 25-36. (История и культура востока Азии.)
- Кубарев Г.В., 2002. Доспех древнетюркского воина из Балык-Соока//Материалы по военной археологии Алтая и сопредельных территорий: Сб. науч. тр./Отв. ред. В.В. Горбунов, А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та. С. 88-112.
- Кубарев Г.В., 2005. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). Новосибирск: Изд-во ИАиЭ СО РАН. 400 с.
- Лю Маоцай, 2002. Сведения о древних тюрках в средневековых китайских источниках/Отв. ред. B. Н. Добжанский, Л.Н. Ермоленко. М.: Изд-во Ин-та востоковедения РАН. 126 с. (Бюллетень Общества востоковедов. Прил. № 1/2002.)
- Матренин С.С., Тишкин А.А., 2005. Булан-кобинская культура Горного Алтая//Социальная структура ранних кочевников Евразии/Отв. ред. Н.Н. Крадин, А.А. Тишкин, А.В. Харинский. Иркутск: Изд-во ИрГТУ С. 152-183.
- Могильников В.А., 1997. Курган 85 Кара-Кобы-I и некоторые итоги изучения древнетюркских памятников Алтая в связи с исследованиями в Кара-Кобе//Источники по истории Республики Алтай: Сб. ст./Отв. ред. А.С. Суразаков. Горно-Алтайск: Изд-во ГАИТИ. С. 187-234.
- Нестеров С.П., Худяков Ю.С., 1979. Погребение с конем могильника Тепсей-Ш//Сибирь в древности: Сб. ст./Отв. ред. И.В. Асеев. Новосибирск: Наука. С. 88-92.
- Овчинникова Б.Б., 1990. Тюркские древности Саяно-Алтая в VI-X вв. Свердловск: Изд-во УрГУ 223 с.
- Окладников А.П., 1951. Конь и знамя на Ленских писаницах//Тюркологический сборник/Отв. ред. А.Н. Кононов. Вып. I. М.: Наука. С. 143-154.
- Плетнева С.А., 1967. От кочевий к городам: Салтово-маяцкая культура. М.: Наука. 198 с.
- Распопова В.И., 1980. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л.: Наука. 139 с.
- Селезнев Ю.В., 2009. Элита Золотой Орды. Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ. 232 с.
- Серегин Н.Н., 2008. Традиция сооружения кенотафов кочевниками тюркской культуры//Археология степной Евразии: Междунар. сб. науч. тр./Отв. ред. А.М. Илюшин. Кемерово; Алматы: Изд-во КузГТУ С. 144-153.
- Серегин Н.Н., 2011. Опыт выделения социально значимых элементов погребального обряда населения тюркской культуры Саяно-Алтая//Известия Алтайского государственного университета. Сер.: История, политология. № 4/2 (72/1). С. 180-185.
- Серегин Н.Н., 2012. Социальная структура населения тюркской культуры Саяно-Алтая (2-я половина VI -XI вв.)//История и культура средневековых народов степной Евразии: Мат-лы II Междунар. конгресса средневековой археологии Евразийских степей (Барнаул, сентябрь 2012 г.)/Отв. ред. А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. С. 238-241.
- Советова О.С., Мухарева А.Н., 2005. Об использовании знамен в военном деле средневековых кочевников (по изобразительным источникам)//Археология Южной Сибири. Вып. 23/Отв. ред. Л.Ю. Китова. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 92-105.
- Соенов В.И., Эбель А.В., 1996. Новые материалы из алтайских оградок//Гуманитарные науки в Сибири. № 3. С. 115-118.
- Фиельструп Ф.А., 2002. Из обрядовой жизни киргизов начала XX века. М.: Наука. 302 с.
- Худяков Ю.С., 1986. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука. 268 с.
- Худяков Ю.С., 1997. Оружие как показатель социального статуса в кочевых обществах Южной Сибири и Центральной Азии//Социальная организация и социогенез первобытных обществ: теория, методология, интерпретация: Мат-лы Всерос. конф. (20-22 окт. 1997 г, Кемерово)/Отв. ред. В.В. Бобров. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 62-64.
- Худяков Ю.С., 2007. Золотая волчья голова на боевых знаменах: Оружие и войны древних тюрок в степях Евразии. СПб.: Петербургское востоковедение. 192 с. (Militaria antiqua.)
- Худяков Ю.С., 2011. Символы и атрибуты государственности у енисейских кыргызов в эпоху раннего средневековья//Этническая история и культура тюркских народов Евразии: Сб. науч. тр./Отв. ред. Н.А. Томилов. Омск: Издатель-Полиграфист. С. 294-299.
- Черемисин Д.В., 2004. Результаты новейших исследований петроглифов древнетюркской эпохи на юго-востоке Российского Алтая//Археология, этнография и антропология Евразии. № 1 (17). C. 40-51.
- Шер Я.А., 1966. Каменные изваяния Семиречья. М.: Изд-во АН СССР. 139 с.