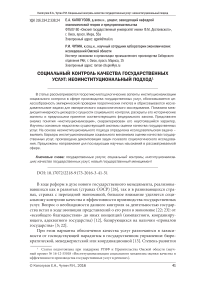Социальный контроль качества государственных услуг: неоинституциональный подход
Автор: Капогузов Е.А., Чупин Р.И.
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Федеральная политика и управление
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты институционализации социального контроля в сфере производства государственных услуг, обосновывается целесообразность эмпирической проверки теоретических гипотез и обрисовываются исследовательские задачи для эмпирического социологического исследования. Показана междисциплинарность дискурса о сущности социального контроля, раскрыты его исторические аспекты и предпосылки принятия соответствующего федерального закона. Представлен анализ понятия «институционализация», охарактеризован его неустоявшийся характер. Изучены основные недостатки существующей системы оценки качества государственных услуг. На основе неоинституционального подхода определена исследовательская задача - выявить барьеры институционализации социального механизма оценки качества государственных услуг, произведена декомпозиция задач полевого социологического исследования. Предложены направления для последующих научных изысканий в рассматриваемой сфере.
Государственные услуги, социальный контроль, институционализация, качество государственных услуг, новый государственный менеджмент
Короткий адрес: https://sciup.org/147204215
IDR: 147204215 | УДК: 316.334.2:338.24 | DOI: 10.17072/2218-9173-2016-3-41-51
Текст научной статьи Социальный контроль качества государственных услуг: неоинституциональный подход
В ходе реформ в духе нового государственного менеджмента, реализовывавшихся как в развитых (странах ОЭСР) [26], так и в развивающихся странах, странах с переходной экономикой, большое внимание уделяется социальному контролю качества и эффективности производства государственных услуг. Вопрос о необходимости данного контроля за деятельностью государства встал в ходе эволюции представлений о его роли в экономике [22; 23]: от «всеобщего благоденствия» до иных концепций (компактного, координирующего, адекватного государства) [12], базирующихся на наличии «провалов государства» [5; 22].
При этом варианты обеспечения качества услуг различаются в зависимости от господствующей парадигмы в государственном управлении: бюрократической, менеджеристской или координационной [13]. Степень развития гражданского общества, политической конкуренции определяет предпосылки для реализации задач управления по результатам [2] и вовлечения потребителей в процесс обеспечения качества в сфере производства государственных услуг. Благодаря социальному (иногда употребляется термин «общественный») контролю, как показывает зарубежный опыт, возможно существенное повышение качества и доступности государственных услуг, прежде всего, за счет снижения трансакционных издержек и потребителей, и производителей (государственных учреждений).
Содержательно социальный контроль за деятельностью государства и его органов включает внутренний (бюрократический) контроль, контроль, осуществляемый как отдельными гражданами, так и специализированными организациями. Для последних функция контроля является либо основным содержанием их деятельности, либо значимым элементом в ней. Стоит отметить, что функция социального контроля реализуется через намеренное создание условий для зависимых от желания оснований действий экономических агентов путем воздействия на не зависимые от желания основания действий [14].
Вместе с тем, осуществление социального контроля связано с возникновением ряда сложностей как теоретического, так и практического характера. К первым относятся проблема рационального неведения, в первую очередь, со стороны потребителей, проблемы лоббизма, безбилетника и др. Нормативное решение может быть различным: от использования принципов лотерей при выборе представителей общественности, вовлеченных в принятие решений власти, до системы «социальных лифтов», предполагающих процесс обучения представителей стейкхолдеров с целью улучшения качества взаимодействия власти и общества [7].
Термин «социальный контроль» имеет много общего с термином «общественный контроль», который закреплен в федеральном законе от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [20]. Согласно ст. 4 указанного закона под ним понимается «деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений». Тем самым сущность контроля фактически сводится к мониторингу деятельности и к последующей реакции на создаваемые (или уже созданные) формальные институты и реализованные решения. Субъектами общественного контроля (ст. 9) выступают общественные палаты и общественные советы, формирование которых устанавливается как данным нормативным правовым актом, так и подзаконными документами.
Достаточно очевидно, что проблема социального контроля носит междис-ципинарный характер. Эта тема интересует ученых всех обществоведческих направлений: философов, юристов, политологов и экономистов, но предметное поле научного дискурса отличается как по используемым предпосылкам, так и по содержанию круга обсуждаемых проблем. Исследования в данном направлении начались еще в XIX в., а сам термин «социальный контроль» восходит к работам обществоведа Ж.Г. Тарда, юриста по образованию и по роду 42
своей основной деятельности, но внесшего наибольший вклад в исследования в области субъективно-психологического направления в западной социологии. Он рассматривал социальную реальность через подражание (имитацию), выявлял отличия «публики» от «толпы» и подчеркивал значение масс-медиа в формировании общественного мнения. Природу социального контроля он изучал в контексте реабилитации преступников, их социализации и адаптации. Данная идея была впоследствии подхвачена американскими социологами Э. Россом и Р. Парком, понимавшими социальный контроль с позиций принуждения членов общества (используя негосударственное принуждение) к поведению в соответствии с общепринятыми в социуме нормами. Классик социологии Т. Парсонс также имел близкую к подходам Росса и Парка позицию, определяя социальный контроль как процесс, с помощью которого через наложение санкций нейтрализуется девиантное поведение. В этой связи исправление девиантов предполагается через три этапа: изоляция, обособление и дальнейшая реабилитация, что должно в конечном счете обеспечить их успешную социализацию.
С позиции правоведов вопросы социального контроля находятся в русле проблемы легальности. Обсуждаемые вопросы касаются соответствия компетенций государственного и общественного контроля [9]; отдельных аспектов вмешательства общественности в сферу правоприменения и законности исполнения закона, например в пенитенциарной системе; анализа проблем девиантологии и криминологии в целом и общественного контроля за несовершеннолетними, в частности; соотношения с существующей системой законодательства и встраивания общественного контроля в механизмы государственного управления [24].
Вопросы социального (общественного) контроля как раздела социальной теории являются предметом осмысления и в социальной философии. В исследовании Е.М. Кузнецовой [17] под ним понимается целенаправленное управленческое воздействие субъекта социального контроля на объект с целью формирования у последнего желаемых моделей поведения, мировосприятия и нравственных ориентиров. Такой подход во многом близок к экономикоуправленческой парадигме, считающей контроль одной из функций процесса управления, наряду с организацией, мотивацией и планированием. Автором отмечаются такие задачи социального контроля, как:
– создание граничных рамок (условий), которые направляют поведение объекта и в которых поведение объекта рассматривается как желаемое и допустимое;
– обеспечение посредством специфических методов и инструментов поведенческой активности объекта, направленной на достижение заданной извне цели;
– выявление и пресечение отклонений от норм социально допустимого поведения.
Значимость социального контроля, в том числе применительно к деятельности государства, подчеркивается и в современном российском социологическом дискурсе [1; 6; 21]. Очевидность необходимости нормативного регулирования в конечном счете и привела к принятию упомянутого выше федерального закона, в котором, однако, реализован «ограничительный принцип» [4].
Нормативный фактор успешности реализации функций общественного контроля предполагает наличие ряда внутренних и внешних условий и факторов. Как отмечают О. Мамедова и А.Н. Байкова [18], к внешним факторам общественного контроля можно отнести:
– уровень общественной активности (развитости гражданского общества);
– уровень правового регулирования;
– уровень информационного обеспечения.
Отметим взаимосвязанность всех факторов. При отсутствии общественной заинтересованности (к примеру, потребителей) нет возможности осуществлять контроль. Отсутствие правового регулирования создает институциональный вакуум для осуществления легальных действий и резко повышает трансакционные издержки взаимодействия государственных и негосударственных субъектов. Не менее очевидным является и информационный фактор. Во многом именно им объясняется значимость развития «открытых правительств», раскрытия информации о деятельности государственных органов и т.д.
Становление эффективного социального контроля требует его институционализации . Авторы статьи полагают, что категория «институционализация» не является устоявшейся. Согласно позиции О.С. Белокрыловой, корни термина имеют социологический характер: «Вслед за Бергером и Лукманом институционализацию следует содержательно характеризовать в контексте трех ее субстанций: взаимная типизация опривыченных действий; историчность и контроль; объективная реальность, т.е. массовость поведения экономических субъектов, превращение норм и правил в массовую институциональную практику. В дополнение к этим общеэкономическим характеристикам процесса институционализации в его структуру, на наш взгляд, необходимо включать также четвертую составляющую – механизм принуждения экономических субъектов к исполнению правил и норм» [3, c. 5]. О.С. Белокрылова подчеркивает этапность процесса институционализации, с закреплением со стороны государства контроля за использованием практик и технологий их применения.
Достаточно абстрактным является определение категории «институционализация» в работе В. Зуба. Под ним понимается процесс правового и организационного закрепления системного подхода, обеспечивающего сбалансированность и общее направление роста организации [11]. Историчность и последовательность, предлагаемая как необходимый атрибут процесса институционализации, сочетается с хабитуализацией [8], но приобретает характер института, когда становится массовым явлением и переходит от отдельных частных практик к широко распространенным и одобряемым обществом поведенческим рутинам. Согласно Дж. Прескотту и С. Миллеру, в конечном счете некое частное «что-либо» становится «распространенным и узаконенным социальным институтом общества» [15]. Тем самым рабочим определением институционализации в рамках неоинституционального подхода становится ситуация формализованного закрепления неформальных социальных практик, придание им статуса института2, решающего определенную социальную проблему.
Таким образом, обозначенные методологические проблемы в сфере институционализации социального контроля, в том числе над деятельностью государства, свидетельствуют о непростом характере категории «социальный контроль». Применительно к сфере производства государственных услуг, как уже ранее отмечалось, социальный контроль является значимым элементом реформ как в зарубежных странах, так и в России в части, касающейся механизмов повышения качества и доступности государственных услуг. При этом выделяется как внутриорганизационный путь повышения их качества, так и внешний (т.н. гражданская гипотеза). В первом случае повышение эффективности достигается за счет институционализации менеджеристских инструментов (изменение механизма мотивации агентов за счет квази-рыночных институтов). Как правило, в этом случае речь идет об изменении административной культуры за счет внедрения стандартов и регламентов, а также осуществления внутреннего контроля за их исполнением [19]. Гражданская гипотеза предполагает рост эффективности за счет вовлечения граждан и предприятий в процесс производства общественных благ на всех фазах принятия политико-управленческого решения. Это имеет положительное влияние на фактическое и воспринимаемое качество государственных услуг и, соответственно, удовлетворенность граждан.
Значимость общественного контроля, успешно зарекомендовавшего себя в ряде стран, привела к принятию в России упомянутого федерального закона. Но первые итоги его применения являются достаточно противоречивыми [4], в связи с чем необходим поиск путей, позволяющих перейти от «фасадной» демократии и формального согласования позиций власти и потребителей государственных услуг к реальному вовлечению людей в процесс повышения их качества.
В 2008 году под руководством Е.А. Капогузова было проведено пилотное социологическое исследование, включающее опрос потребителей по услугам, предоставляемым на территории отделов Управления Министерства труда и социального развития Омской области в Центральном и Советском административных округах г. Омска (в многофункциональных центрах предоставления услуг). Ключевыми институциональными проблемами, выявленными в ходе исследования, оказались слабость инфорсмента (механизма принуждения к исполнению правил) в сфере производства и потребления государственных услуг, высокие трансакционные издержки судебного механизма и коллективных действий при внесудебном инструментарии воздействия на качество услуг (в том числе вследствие проблемы безбилетника и информационной асимметрии). На наш взгляд, в условиях неразвитой институциональной среды, которая характерна для России и других стран постсоветского пространства, происходит замещение неэффективных с позиций общественного благосостояния формальных норм и механизмов принуждения (политических, судебных) неформальными связями и механизмами.
Мониторинг качества государственных услуг в Российской Федерации имеет уже более чем десятилетнюю историю. В соответствии с концепцией административной реформы в 2006–2010 гг. основной целью мониторингов было выявление удовлетворенности населения. Между тем анализ результатов проведенного в 2008 г. всероссийского мониторинга выявил проблему манипулируемости результатами оценки [13]. Существующая в настоящее время система мониторинга также далека от идеала [16; 25] и на практике осуществляется преимущественно административным способом без использования механизмов социального контроля.
Таким образом, представляется целесообразным проведение нового социологического исследования, посвященного изучению барьеров институционализации социального механизма оценки качества государственных услуг. Применительно к исследовательской задаче оно рассматривается с функциональной точки зрения как формализованное закрепление неформальных социальных практик, придание им статуса института, решающего определенную социальную проблему .
Применительно к обозначенной тематике барьеры институционализации социального механизма оценки качества государственных услуг можно классифицировать следующим образом:
– ресурсные, связанные с недостатком финансовых и производных ресурсов, необходимых для совершенствования системы оценки;
– информационные, связанные с существующей неполнотой и асимметрией информации об особенностях производства услуг, резервах оптимизации издержек и возможностях потребителей;
– институциональные, связанные с несовершенством формальных институтов (в частности стандартов, административных регламентов) и наличием неформальных институциональных ограничений. Последнее имеет серьезное значение как ключевой сдерживающий фактор.
Также в ходе социологического исследования целесообразно выявить содержание системных и культурных изменений, происходящих в институциональной среде производства государственных услуг, наиболее значимые для потребителей признаки (атрибуты) качественной государственной услуги, информационные, организационные и иные барьеры доступа к услугам; определить, в какой степени потребители ощущают результаты институциональных изменений, проводимых в сфере производства государственных услуг, существует ли потребность в создании специализированных структур защиты прав потребителей государственных услуг.
Дальнейшей теоретико-методологической задачей является разработка качественной классификации, проведение детализации и выявление трансакционных издержек производства государственных услуг при различных институциональных альтернативах их получения (лично, через МФЦ, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, через посредников – профессиональных консультантов). При переходе в нормативную плоскость данный вопрос требует институционализации такого механизма через выработку рутин внесудебных форм воздействия.
Кроме того, детальный анализ существующих процессов на примере массовых услуг позволит дополнить инструменты их совершенствования, как предусмотренными нормативной базой, так и предлагаемыми в литературе [10]. Анализ институциональных альтернатив позволит выявить структуру трансакционных издержек и будет способствовать созданию основы для дальнейшего анализа и институционального проектирования в исследуемой сфере.
Список литературы Социальный контроль качества государственных услуг: неоинституциональный подход
- Акулич М.М., Батырева М.В. Социальный контроль как механизм повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг.//Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Социология. 2013. № 4. С. 104-116.
- Барбер М. Приказано добиться результата. Как была обеспечена реализация реформ в сфере государственных услуг Великобритании. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 393 c.
- Белокрылова О.С. Используем методологию институционализма//Journal of Economic Regulation (Вопр. регулирования экономики). 2013. Т. 4, № 3. С. 5.
- Белокрылова О.С., Вахтина М.A. На пути к гражданскому обществу. В России принят закон об общественном контроле//Journal of Economic Regulation (Вопр. регулирования экономики). 2014. Т. 5, № 4. С. 14-25.
- Белокрылова О.С., Вахтина М.А. От «провалов рынка» к «провалам государства»: еще раз к вопросу о социальной справедливости в экономике//Journal of Economic Regulation (Вопр. регулирования экономики). 2016. Т. 7, № 2. С. 6-19.
- Бутова Т.В., Овсянникова Т.К. Сущность общественного контроля в современной России//Науч. зап. молодых исследователей. 2015. № 3. С. 49-54.
- Бычкова О. Публика и принятие правительственных решений: кому нужны «народные» обсуждения и консультации?//Вопр. экономики. 2014. № 6. С. 63-80.
- Важенин С.Г., Важенина И.С. Конкурентное сосуществование территорий в экономическом пространстве. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2013. 78 с.
- Ветчинова В.Ю. Реформа государственной службы и общественный контроль//Политика, экономика и инновации. 2016. № 1 (3). С. 8-11.
- Загоруйко А.Е. Детализированные предложения по совершенствованию системы оказания государственных и муниципальных услуг . URL: http://www.gosbook.ru/node/21474 (дата обращения: 05.05.2016).
- Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, 2008. 420 с.
- Капогузов Е.А. Дискретные институциональные альтернативы реформ государственного управления в странах с развитой и развивающейся институциональной средой//Journal of Institutional Studies (Журн. институцион. исслед.). 2016. Т. 8, № 3. С. 102-115.
- Капогузов Е.А. Институциональная структура производства государственных услуг: от веберианской бюрократии -к современным реформам государственного управления. Омск: Изд-во ОмГУ, 2012. 408 с.
- Капогузов Е.А., Чупин Р.И. Социальный контроль в сфере качества пищевых продуктов в России: теория и практика саморегуляции//Journal of Economic Regulation (Вопр. регулирования экономики). 2016. Т. 7, № 2. С. 38-48.
- Конкурентная разведка. Уроки из окопов/под ред. Дж.Е. Прескотта, С.Х. Миллера. М.: Альпина Паблишер, 2003. 336 с.
- Костина С.Н. Проблемы организации мониторинга качества государственных услуг//Актуал. проблемы социологии молодежи, культуры, образования и управления. 2014. № 4. С. 263-267.
- Кузнецова Е.М. Социальный контроль как элемент социального управления: автореф. дис. … канд. филос. наук. Омск: типография ИП Макшеевой Е.А., 2006. 18 с.
- Мамедова Н.А., Байкова А.Н. Общественный контроль в сфере государственных и муниципальных закупок: теоретические и практические основы. М.: МЭСИ, 2015. 312 с.
- Мониторинг качества предоставления государственных услуг . URL: http://ar.gov.ru/gos_uslugi_03_monitoring_kachestva_predostavleniya_gos_uslug/index.html (дата обращения: 08.05.2016).
- Об основах общественного контроля в Российской Федерации : федер. закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ. URL: http://base.garant.ru/70700452/(дата обращения: 26.08.2016).
- Переходов В.А. Социальный контроль над государственной властью: за и против//Известия Саратов. ун-та. Новая сер. Сер.: Социология. Политология. 2013. Т. 13, № 2. С. 31-36.
- Радыгин A., Энтов Р. «Провалы государства»: теория и политика//Вопр. экономики. 2012. № 2. С. 4-30.
- Танци В. Роль государства в экономике: эволюция концепций//Мировая экономика и междунар. отношения. 1998. № 10. С. 51-62.
- Шапкина Е.А. Общественный контроль как механизм участия в государственном управлении//Мониторинг правоприменения. 2015. №4 (17). С. 28-32.
- Южаков В.Н. Качество государственных и муниципальных услуг: усилия и результаты административной реформы//Вопр. гос. и муницип. управления. 2014. № 1. С. 52-70.
- Pollitt Ch., Bouckaert G. Public Management Reform: a Comparative Analysis: New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. 352 p.