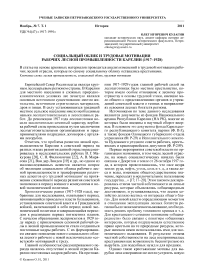Социальный облик и трудовая мотивация рабочих лесной промышленности Карелии (1917-1928)
Автор: Кулагин Олег Игоревич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7 (120) т.1, 2011 года.
Бесплатный доступ
Лесная промышленность, социальный облик, трудовая мотивация
Короткий адрес: https://sciup.org/14749987
IDR: 14749987
Текст статьи Социальный облик и трудовая мотивация рабочих лесной промышленности Карелии (1917-1928)
Европейский Север России всегда являлся крупным лесосырьевым регионом страны. В Карелии для местного населения в сложных природноклиматических условиях лес зачастую являлся основным источником существования: местом жительства, источником строительных материалов, дров и пищи. В силу установившихся традиций местное сельское население имело необходимые навыки лесозаготовительных и лесосплавных работ. До революции 1917 года лесозаготовки носили исключительно сезонный характер, вербовка рабочей силы происходила путем заключения лесозаготовительными организациями и предпринимателями подрядных договоров с артелями лесорубов.
Отметим, что проблема развития лесной промышленности Карелии в советский период на разных этапах развития данной отрасли рассматривалась в исследовательских работах В. Г. Ма-курова [20], С. Н. Филимончик [22], А. В. Миря-сова [21], Ван дер Линден [19] и др., но одним из малоисследованных аспектов является вопрос об эволюции социального облика рабочего лесной промышленности и трансформации различных аспектов его трудовой мотивации1 на протяжении сложнейшего периода развития советской экономики в период военного коммунизма и новой экономической политики.
Хронологические рамки (1917–1928 годы), выбранные для исследования, охватывают период, начинающийся приходом к власти большевиков, установлением советской власти и Гражданской войной, включающий в себя период новой экономической политики и завершающийся переходом к реализации первых пятилетних планов. С началом образования леспромхозов в 1929 году наряду с привлечением сезонной рабочей силы в лесной промышленности стали создаваться постоянные кадры рабочих. С их формированием связано появление нового социального облика лесного рабочего с новой исключительно «советской» мотивацией к труду.
Главной особенностью рассматриваемого периода являлось отсутствие в лесной отрасли Карелии постоянных кадров рабочих. На протяже- нии 1917–1929 годов главной рабочей силой на лесозаготовках было местное крестьянство, которое имело особое отношение к лесному пространству и основы трудовой этики, имевшие мало общего с представлениями органов и учреждений советской власти о темпах и направлениях освоения лесных богатств региона.
Источниками по теме данного исследования являются документы из фондов Национального архива Республики Карелии (НА РК), многие из которых были введены в научный оборот впервые. В основном это документы фонда Карельского республиканского комитета партии (Ф. П-3), а также фондов Олонецкого губернского отдела управления (Ф. Р-29) и Исполнительного комитета Пудожского уездного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Ф. Р-249).
Первые мероприятия советской власти по организации экономики, в том числе лесной отрасли, на новых социалистических началах были связаны с Декретом о земле от 26 октября 1917 года, в котором провозглашалось, что «все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т. д., а также леса и воды, имеющие общегосударственное значение, переходят в исключительное пользование государства…» [17; 17–20]. Этим законом декларировалась отмена частной собственности на лесные ресурсы, которые объявлялись «общенародным достоянием», и устанавливалось, что лесное хозяйство должно вестись «в интересах общего блага». Для новой власти определяющим моментом в отношении эксплуатации лесных богатств региона было экономическое выживание, необходимость решить проблему топливного кризиса и т. д. Для крестьянского сознания понимание «общена-родности» было связано с понятием «общинных интересов», которые подразумевали естественное право крестьян на те природные ресурсы, которые испокон веков использовались ими для экономического выживания. В результате отмена частной собственности на леса воспринималась крестьянами как возможность бесконтрольно их вырубать для подсобных нужд и для продажи.
Однако такие крестьянские мотивы для вырубки леса совершенно не могли устроить новую власть. С 17 по 28 января 1918 года в Петрограде проходил Всероссийский съезд земельных комитетов. На нем обсуждался Основной закон о социализации земли, предусматривавший уравнительное пользование крестьян землей, в том числе и лесными площадями. Пятая статья принятого 19 февраля 1918 года Декрета ВЦИК «О социализации земли» среди прочего гласила: «Распоряжение недрами земли, лесами, водами и живыми силами природы предоставляется, в зависимости от их значения, уездной, губернской областной и федеральной советской власти под контроль последней…» [17; 17–20]. Уже в марте 1918 года Олонецкий Губземком не замедлил провести данные решения в жизнь, указывая на необходимость все частновладельческие леса взять под охрану от самовольных рубок, а все попенные деньги2 с торговой наценкой на заготовленный кем бы то ни было лес зачислить в депозит Губзмелькома [18; 18].
Такое решение встретило протест крестьян Олонецкого края, которые в марте – апреле 1918 года на волостных собраниях постановили не принимать национализации крестьянских надельных лесов, навязанной им новой властью. Более того, когда осенью 1918 года началось введение трудовой повинности по заготовке древесного топлива, крестьяне Авдеевской волости Пудожского уезда постановили: «...советской власти как поступившей к нам насильно и как ведущую нас к гибели не признавать, а также не подчиняться и никаким распоряжениям, идущим вразрез с нашими желаниями...» [15; 81].
Последующее введение уездным исполнительным комитетом трудовой повинности для населения не дало видимых результатов, так как население было абсолютно не заинтересовано в принудительном труде, не приносившем экономической выгоды. Не решало проблемы и введение на срок с 1 июля 1918 по 1 июля 1919 года «Временных правил отпуска леса на местные надобности из общенародных лесов», которые должны были облегчить получение лесных материалов для нужд местного населения [16; 25], установление поденной оплаты труда на сплаве, смягчение наказаний за самовольную рубку леса и т. д.
После окончания Гражданской войны большее внимание со стороны новой власти стало уделяться лесным концессиям. В сферу социально-экономических отношений между властями и рабочими лесной промышленности вмешивалась третья сила в лице иностранных концессионеров. Это создавало условия для конкуренции между моделью советской трудовой мотивации-принуждения, мало понятной для психологии крестьянина-собственника, и моделью трудовой мотивации капитализма. Опасения по поводу нежелательного для новой власти результата такой конкуренции отчасти были оправданы. О них говорил В. И. Ленин на съезде Советов от фрак- ции РКП(б) в докладе от 21 декабря 1920 года о лесных концессиях на севере Европейской России: «Нам говорили, что концессионеры создадут исключительные условия для своих рабочих, привезут для них лучшую одежду, лучшую обувь, лучшее продовольствие. Такова будет их пропаганда среди наших рабочих, которые должны терпеть лишения и долгое время еще будут их терпеть…» [18; 66].
Ленин расценивал политику концессий как средство продолжения войны между социалистическим и капиталистическим лагерями. В этой войне советская власть продолжала прибегать к принудительным видам трудовой мотивации, таким как штрафные лесозаготовительные дружины, появившиеся по постановлению Олонецкого уездного исполнительного комитета от 15 февраля 1921 года. Согласно постановлению, за невыполнение разверстки по заготовке топлива граждане должны были направляться в уезд-комдезертир (Уездный комитет по борьбе с дезертирством) [18; 74]. Важные изменения в стимулировании трудовой мотивации рабочих лесной промышленности должны были произойти на основании решений Х съезда РКП(б), прошедшего в период с 8 по 16 марта 1921 года. Съезд признал ненормальной существовавшую тогда форму отношений между городом и деревней, при которой крестьянство, являвшееся тогда главной рабочей силой на лесозаготовках, находилось в крайне невыгодных условиях жизни и труда по сравнению с городскими рабочими.
Однако на практике главным стимулом для интенсификации производства в лесной отрасли по-прежнему оставалось принуждение и устрашение, что вряд ли можно назвать эффективным способом трудовой мотивации. В приговоре Олонецкого губернского ревтрибунала от 22 декабря 1921 года в отношении граждан Повенецкого уезда, уклонявшихся от выполнения государственных заданий по лесозаготовкам зимой 1921 года, предусматривалось их привлечение на работы в Тихвиноборскую дистанцию Повенецкого райуплеса (районное управление леса). В случае уклонения было предписано отправлять их на принудительные работы на ст. Сегежа Мурманской железной дороги в распоряжение лесного отдела Повенецкого райотдела губсоюза (губернский союз) на срок до трех месяцев [18; 90]. Меры такого рода, всевозможные мобилизации и обложение крестьян и рабочих Карелии трудгуж-налогом возмущали население, а скудные заработки заставляли крестьян вовсе бросать работу и уезжать с лесозаготовок на биржи [14; 21].
В результате развития новых экономических отношений формировались новое самовосприя-тие рабочих лесной отрасли Карелии и новые элементы их трудовой мотивации. Как следует из информационной сводки Карельского областного отдела ГПУ о положении лесной промыш- ленности от 23 июля 1923 года, «отношение рабочих к соввласти и РКП(б) доброжелательное, к НЭП натянутое, а к нэпманам враждебное из-за поднятия с каждым днем рыночных цен…» [2; 7–9]. В этой же сводке содержатся сведения, что рабочие были недовольны мизерной платой и несвоевременной ее выдачей, в результате чего они старались уходить с работы. Очевидно, что в данный период рабочие лесной отрасли начинают осознавать себя в качестве самостоятельной социальной силы, имеющей свои интересы и средства их реализации.
Система материального стимулирования, формировавшаяся на лесозаготовках в это время, наряду с положительными моментами все больше подчеркивала социальный антагонизм между пролетариатом и крестьянством, занятым на лесозаготовках. На лесопильных заводах выдача зарплаты рабочим осуществлялась сравнительно своевременно и в живых деньгах, в то время как на лесозаготовках крестьянин при максимальном труде зарабатывал в день от 30 до 35 фунтов муки. В итоге крестьянство получало зарплату в основном натурой и к тому же несвоевременно [5; 57–60]. Это обстоятельство не могло не отразиться не только на трудовой мотивации крестьянства, но и на его политических настроениях. Отмечая случаи антисоветских настроений среди рабочих лесной промышленности, органы ГПУ подчеркивали, что в основном они относились не к «основному пролетариату Карелии», а к сезонным рабочим или только что пришедшим на работу в промышленность крестьянам [13; 18–19].
Неравные социально-экономические условия для рабочих и крестьян, занятых в одной отрасли, неоднократно подчеркивались на проводившихся в тот период беспартийных крестьянских конференциях. В частности, крестьяне часто жаловались на лучшие, чем у них, жилищные условия рабочих, их бóльшую социальную защищенность (страхование, пенсии, 8-часовой рабочий день) и материальную обеспеченность (стабильную зарплату, лучшую, чем у крестьян, одежду). Крестьяне же, по их собственному мнению, ничего этого не имели: «...Если крестьянин пойдет на лесозаготовки и заболеет, его никто не обеспечит, убьет его деревом или искалечит, тоже ничего не получишь...» [7; 5об].
Двойственность социального облика рабочих лесной промышленности в этот период определялась также и разным видением трудовой мотивации для пролетариев и крестьянства. На крестьянских конференциях в выступлениях зажиточного крестьянства подчеркивалось, что советская власть является властью только рабочих, а крестьяне угнетены и загнаны в подполье: «...рабочий налогов не платит, а крестьянин платит под страхом оружия. Государство создает лесозаготовительные тресты для того, чтобы легче было прижать крестьян, дать низкую зарплату и т. д.» [7; 5об].
Зарплата рабочих в лесопильном производстве, хотя и выплачивалась стабильнее, чем крестьянам, в общих цифрах также была весьма низкой. В 1924–1925 годах средняя зарплата за месяц в лесопильном производстве в Карелии составляла: в январе 1924 года – 31 руб., в феврале – 36 руб., в марте – 40 руб., в апреле – 33 руб., в мае – 33 руб., в июне – 38 руб., в июле – 38 руб. [3; 15]. Примечательно, что по сравнению с горной и пищевой отраслями, с выплатами на Онежском заводе, в полиграфическом производстве средняя зарплата рабочих лесной промышленности была ниже [3; 15], хотя по количеству рабочих лесная отрасль далеко опережала другие производства и была жизненно важной для экономического развития региона.
Необходимо иметь в виду и то, что мизерность зарплаты на лесозаготовках усугублялась ростом цен на продовольственные товары. К примеру, в 1925 году на лесозаготовках Госпароход-ства в Кемском уезде за распиловку одной сажени дров была установлена плата в 60 коп., в то время как до 1917 года платили от 60 до 70 коп. с сажени. За восьмичасовой рабочий день двое рабочих успевали распиливать только 2 сажени. В результате дневной заработок рабочего был равен заработку в дореволюционное время. Однако цены на продовольствие выросли примерно на 200 % по сравнению с дореволюционными. Такую мизерную плату получали женщины и девочки-подростки, которые в основном и были заняты на распиловке дров, поскольку мужчины работали на более высокооплачиваемой погрузке [8; 62–63].
Следствием низких заработков и явной незаинтересованности рабочих в результатах своего труда стало увеличение числа прогулов. Администрация предприятий пыталась бороться с прогулами самыми строгими мерами (штрафами, увольнениями с заводов и т. д.), но это не принесло практически никаких результатов. Более того, рабочие видели в этом «карательные» меры со стороны администрации, которая, как они считали, сплошь состояла из «старорежимных спецов» [5; 57–60]. Низкая зарплата и тяжелые бытовые условия приводили также к систематическому пьянству среди рабочих. Например, в апреле 1925 года на лесозаводах № 37 и 38 празднование рабочими Пасхи вылилось в пьянку, неутешительным итогом которой стало тяжелое ранение одного из рабочих в результате поножовщины [8; 8]. Случаи систематического пьянства на производстве, скандалы и драки были зафиксированы и на других лесозаводах. Незаинтересованность рабочих лесной отрасли в результатах своего труда проявлялась также и в небрежном отношении к предмету собственного производства и даже случаях воровства [8; 77].
Для социального самовосприятия рабочих лесной отрасли в данный период все более характерным является противостояние заводской администрации, которую рабочие воспринимали в качестве антагонистического класса. При этом разница в материальном стимулировании рабочих и служащих являлась одной из главных причин социального конфликта [5; 42–44]. Ситуация осложнялась и тем, что у рабочих не было доверия к старым специалистам скорее по «классовым» соображениям, а к новым «спецам» – по причине их теоретической и практической некомпетентности [4; 130об]. Был у служащих предприятий и ряд льгот, которых у рабочих не было. Особенно ситуация обострялась, когда администрация увольняла рабочих, проработавших на заводе много лет, но потерявших трудоспособность [10; 25].
Такого рода социальные противоречия между рабочими и администрацией получили свое объяснение в документах органов ГПУ. В докладной записке ГПУ КАССР о состоянии лесной промышленности республики осенью 1927 года подчеркивалось, что за год было зафиксировано всего 96 случаев недовольства рабочих и 76 из них (79,2 %) относились именно к недовольству администрацией. Причина, как следует из документа, «кроется в том, что состав ее (администрации. – О. К .) преимущественно квалифицированный (специалисты) бюрократически подходит к рабочему и в подавляющем составляет чуждый пролетариату элемент...» [13; 18–19].
В это время отношение рабочих лесозаготовительных участков, которые в большинстве своем были крестьянами, к собственной трудовой среде никак нельзя назвать исключительно «пролетарским». Например, в январе 1925 года среди рабочих всех лесозаготовительных участков наблюдалось, согласно документам, недовольство из-за предоставления ряда преимуществ кулакам при отводе лесозаготовительными дистанциями делянок и участков для заготовки леса [10; 25].
Характерно, что восприятие социального облика рабочих лесной отрасли представителями местных властей также было весьма противоречивым. Например, в обзоре политического, социального и экономического положения населения в Поготской волости в мае 1925 года отмечалось, что «население считает себя крестьянами, но кормится исключительно от лесозаготовок, и хозяйство кр-на зависит от того, сколько он может заработать на лесозаготовительных и сплавных работах, т. ч. рассматривать их как крестьян в полном смысле невозможно…» [8; 14].
Крестьянский характер лесной промышленности Карелии в середине 1920-х годов проявлялся и в сезонной занятости рабочих на лесозаготовительных предприятиях. В докладе орготдела Карельского областного комитета РКП(б)
за май – июнь 1924 года отмечено отсутствие недостатка рабочей силы на лесосплавных работах, которая на 60 % состояла из местных сплавщиков и на 40 % – из приезжих из Онежского уезда Архангельской губернии. При этом привоз сплавщиков из-за пределов Карелии был необходим вследствие прекращения сплавных работ местным крестьянством во время сенокоса [3; 130].
Однако одновременно шел процесс формирования прослойки наемных лесозаготовительных рабочих из крестьян, терявших связь с землей и сельским хозяйством. Как указывалось на VI Все-карельской областной конференции 1925 года, в карельской деревне в этот период, с одной стороны, происходило непрерывное увеличение количества бедневших крестьянских хозяйств, с другой – быстрый рост крупных хозяйств [6; 173– 174]. Этот процесс социально-экономической дифференциации в условиях новых экономических отношений приводил к формированию в карельской деревне социально-экономических типов так называемых «беспосевников» и «безлошадников», которые пополняли кадры наемных рабочих (батраков) лесорубов. Советская власть идентифицировала таких «батраков» как «сельских рабочих, лишенных средств производства», и как «деревенских пролетариев», считала необходимым объединить их в профсоюз. Основным условием для вступления лесоруба в союз должны были служить «безлошадность» и «безпо-севность» – яркий атрибут рабочего-маргинала, которого необходимо было организационно оформить [6; 173–174]. Судя по приводимым в документах цифрам о социальном составе рабочих-лесорубов Карелии в сентябре 1925 года, среднестатистический лесоруб имел одну лошадь, одну корову, земельный надел в размере не более одной десятины земли и 11–12 месяцев в году работал по найму [11; 48].
Проблема формирования постоянных кадров для лесной отрасли Карелии заключалась также и в том, что практически каждый год хозяйственные органы республики привозили рабочих (сплавщиков, лесорубов, шпалотесов) для лесной отрасли из других губерний без всякого учета излишков рабочей силы внутри Карелии в период сезонной трудовой активности местной рабочей силы. Социальный облик тех людей, которые приезжали в Карелию из других регионов для работы на лесозаготовках, был преимущественно крестьянским. В 1925–1926 годах различными организациями Карелии на лесные работы было организованно завезено примерно 12 тыс. рабочих и 3,5 тыс. лошадей. Большинство рабочих завербовали в Череповецкой губернии. К сожалению, точных сведений, сколько фактически приезжих рабочих трудились на территории Карелии в этот период, не имеется в силу того, что многие из них попадали в Карелию, как указано в документах, «самотеком» [12; 34].
У руководства организаций, занимавшихся лесозаготовками, существовали совершенно разные мнения о трудовых навыках приезжей рабочей силы и возможности ее использования в условиях Карелии. Одни утверждали, что приезжие лесорубы, прибывавшие в Карелию в лаптях и на легких санях, являлись совершенно непригодной рабочей силой в условиях сурового северного климата. Администрация других лесозаготовительных предприятий считала, что привозные рабочие полностью соответствовали своему назначению и что приехавшие были «более производительны», чем местное крестьянство, поскольку не отлучались домой на праздники и более интенсивно использовали время своего пребывания на работе [12; 34]. Таким образом, трудовая мотивация у привозной рабочей силы на лесозаготовках была иногда выше, чем у местных крестьян.
Социальная характеристика рабочих лесной промышленности Карелии была бы неполной без упоминания о заключенных лагерей, труд которых с середины 1920-х годов стали использовать на лесозаготовках. В 1925–1926 годах в Кемском уезде на вновь организованной лесозаготовительной дистанции на приобретенных в Финляндии лошадях работали заключенные Управления Соловецких лагерей особого назначения (УСЛОН). Договор с УСЛОНом был заключен на заготовку 150 000 бревен, причем за весь сезон задания были выполнены на 80 %. Такой результат признавался вполне удовлетворительным [12; 34]. Несмотря на принудительный характер труда заключенных, его продуктивность оказалась, как свидетельствуют документы, весьма высокой. Этому способствовали: строжайшая трудовая и общелагерная дисциплина вместе с надлежащей организацией труда, соответствующим материальным обеспечением и систематическим премированием наиболее отличившихся работников. Главная особенность организации труда на лесозаготовках для заключенных состояла в том, что возвращавшиеся из леса рабочие, в отличие от тех, кто работал на свободе, не должны были сами заботиться о приготовлении пищи, ремонте своей одежды и обуви, приспособлении инструментов, уходе за лошадьми и т. п. Все это должны были делать другие заключенные, которые также занимались отоплением помещений, уборкой, снабжением водой. Выполнившие урок заключенные премировались отдыхом продолжительностью от одной до трех недель [18; 129– 130]. Как это ни парадоксально, но при всех суровых условиях лагерной жизни и жестокого принуждения организация труда на лесозаготовках УСЛОНа была наиболее эффективной с точки зрения максимального использования трудового потенциала рабочей силы.
К концу рассматриваемого периода, помимо некоторых изменений в социальном облике ра- бочих лесной отрасли, наблюдаются и любопытные изменения в направленности их трудовой мотивации, которая, по всей видимости, менялась под влиянием общих тенденций развития новой экономической политики.
Одно из таких изменений было связано с тем, что с осени 1925 года помимо специальных лесопромышленных организаций, многочисленные организации, которым лес был необходим для собственных строительных нужд, стали закупать лесосеки и приступать на них к самостоятельным заготовкам древесины. В результате проведенных в сентябре 1925 года и санкционированных государством торгов на право эксплуатации лесосек получилась «чересполосица» в пользовании лесоэксплуатационными участками между многочисленными организациями. Это не только поставило под угрозу проведение лесозаготовок и лесосплавных работ, но и привело к нечистоплотной конкуренции за рабочую силу. Несмотря на установленные Совещанием лесозаготовителей накануне торгов твердые цены и серьезные взыскания в случае их нарушения, конкурирующие лесозаготовительные организации уже в самом начале лесозаготовок начали поднимать цены на оплату труда лесозаготовителей. Для того чтобы привлечь на собственные лесосеки рабочую силу, которой катастрофически не хватало, они всяческими законными и незаконными путями стремились повысить зарплату рабочих. В результате рабочие зачастую переезжали с места на место, узнавая о новых более выгодных предложениях лесозаготовительных организаций, что в конечном итоге срывало лесозаготовительные работы. Бывало и так, что лесорубы, получив авансы у двух организаций, ехали к третьей, не выполнив работы и получая уже там двойные или тройные проездные и суточные [12; 2, 11, 23, 25]. Таким образом, из-за отсутствия опыта конкурентной борьбы у государственных лесозаготовительных организаций, проблем с обеспеченностью рабочей силой и огромных потребностей в древесине попытка использования материального фактора для стимулирования трудовой мотивации рабочих лесной отрасли оказалась не столь эффективной.
Желание рабочих побольше заработать на лесозаготовках, не подкрепленное четко оформившейся трудовой моралью, очень часто трансформировалось в стремление достигнуть высокой выработки любой ценой. В частности, об этом говорится в докладной записке ГПУ КАССР о состоянии лесной промышленности республики осенью 1927 года. Одной из главных причин огромных убытков государства на лесосплавных работах, помимо отсутствия должного контроля со стороны администрации лесосплавных дистанций, в ней названо стремление рабочих больше заработать, толкавшее их на некачественную сплотку древесины [13; 14–16].
По постановлению Совета труда и обороны от 12 июля 1929 года «О реорганизации лесного хозяйства и лесной промышленности» основными заготовителями леса стали государственные лесопромышленные предприятия (леспромхозы), подведомственные Высшему совету народного хозяйства союзных республик и их местным органам. Началась эпоха индустриализации, которая серьезным образом повлияла на развитие лесной промышленности и поменяла социальный облик и трудовую мотивацию рабочих. Государство перешло к созданию постоянных кадров рабочих в лесной отрасли, которые долж- ны были заменить сезонно привлекаемое к лесозаготовкам крестьянство. Элементы материальной мотивации к труду в отрасли окончательно заменяются «трудовым ударничеством», однако при отсутствии нормальных жилищных условий и продовольственного обеспечения оно не могло служить серьезным стимулом для достижения высоких показателей производительности труда.
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 10-01-00631 a/F «Народ, разделенный границей».
Список литературы Социальный облик и трудовая мотивация рабочих лесной промышленности Карелии (1917-1928)
- Национальный архив Республики Карелия (далее -НА РК). Ф. П-3. Оп. 1. Д. 211.
- НА РК. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 266.
- НА РК. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 489.
- НА РК. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 493.
- НА РК. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 494.
- НА РК. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 581.
- НА РК. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 630.
- НА РК. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 632.
- НА РК. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 634.
- НА РК. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 675.
- НА РК. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 22.
- НА РК. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 25.
- НА РК. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 178.
- НА РК. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 93.
- НА РК. Ф. Р-249. Оп. 1. Д. 1/7.
- НА РК. Ф. Р-249. Оп. 1. Д. 1/22.
- Декреты Советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. -16 марта 1918 г./Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Институт истории Академии наук СССР. М.: Гос изд-во полит. лит., 1957. 625 с.
- Советская лесная экономика. Москва-Север. 1917-1941 гг.: Сб. документов и материалов/Сост. В. Г. Макуров, А. Т. Филатова. Петрозаводск, 2005. 442 с.
- Вандер Линден М. Мотивация труда в российской промышленности: некоторые предварительные суждения//Социальная история. Ежегодник. 2000. М.: РОССПЭН, 2000. С. 206-218.
- Макуров В. Г. Лесная промышленность Европейского Севера накануне Великой Отечественной войны//Социально-экономическое развитие Европейского Севера. Сыктывкар, 1987. С. 58.
- Мирясов А. В. Мотивация труда промышленных рабочих в России в 1920-е годы: некоторые аспекты проблемы (на материалах Пензенской губернии)//Экономическая история. Обозрение. Вып. 7. М., 2001. С. 26-41.
- Филимончик С. Н. Об участии иностранных рабочих в индустриализации Карелии в годы первых пятилеток (1928-1937 гг.)//Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 1987. С. 145-156.