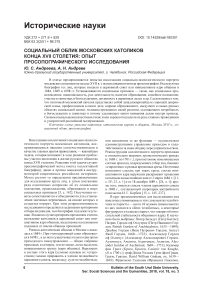Социальный облик московских католиков конца XVII столетия: опыт просопографического исследования
Автор: Андреева Юлия Сергеевна, Андреев Александр Николаевич
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 т.18, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка воссоздания социально-психологического портрета московских католиков на исходе XVII в. с использованием метода просопографии. Исследуются биографии тех лиц, которые входили в церковный совет или инициативное ядро общины в 1684, 1689 и 1698 гг. Устанавливаются социальные признаки - такие, как социальное происхождение, национальность, род деятельности, наличие образования, семейное положение, участие в таинствах и богослужениях, активность в церковных делах и др. Сделан вывод о том, что типичный московский католик представлял собой западноевропейца из хорошей дворянской семьи, профессионала в своем деле, широко образованного, сведущего в самых разных областях социальной жизни, человека преданного своей религии, осознающего потребность в богослужении и таинствах и потому уделяющего много внимания делам внутри прихода. Своими социальными качествами такие люди хорошо подходили на роль главных проводников и ускорителей российской модернизации.
Римские католики, католические церкви и общины, москва xvii в., социальный облик, просопография
Короткий адрес: https://sciup.org/147231610
IDR: 147231610 | УДК: 272 | DOI: 10.14529/ssh180301
Текст научной статьи Социальный облик московских католиков конца XVII столетия: опыт просопографического исследования
Воссоздание коллективного социально-психологического портрета московских католиков, воспринимавшихся нашими соотечественниками в качестве главных врагов православия, — важнейшая задача, которая возникает в ходе решения проблемы участия иноземцев в жизни русского общества конца XVII столетия. Решению этой задачи служит просопографический метод (метод коллективной биографии), давно и прочно вошедший в инструментарий современных российских историков. Метод состоит «в определении предназначенных для исследования круга лиц, а затем постановке ряда однотипных вопросов» об их социальном положении, происхождении, образовании и иных социальных признаках [5, с. 142]. Полученные ответы сопоставляются и объединяются для установления значимых переменных, на основе которых и создается портрет. При этом репрезентативность исследования определяется заданными критериями отбора индивидов, чьи биографии подлежат изучению. В нашем случае критерием предлагаем считать вхождение католиков в церковный совет или инициативное ядро общины, выделяемое на основании поданных от имени общины прошений.
Римско-католическая община в Москве сложилась к 1684 г. При этом церковный совет образовался в 1698 г., а до него существовал только один орган приходского самоуправления — общее собрание прихожан, в котором, тем не менее, легко выделить инициативную группу (ядро общины). Верующих в составе этого ядра (условно назовем их «старостами») можно приравнять к членам позднейшего церковного совета, поскольку, судя по челобитным, они выполняли те же функции — осуществляли административное управление приходом и ходатайствовали за свою общину перед правительством. Реконструкция коллективного портрета прихожан в относительно широких хронологических рамках (с 1684 г. по 1701 г.), при постоянно изменяющемся составе прихода, подразумевает отбор лиц, бывших «старостами» в разные временные срезы. Источники позволяют сделать три таких среза: состав инициативного ядра верующих раскрывают прошения католиков на высочайшее имя от 3 марта 1684 г. [11, с. IV; 23, л. 1] и от 18 декабря 1689 г. [24, л. 1]; кроме того, имеется список членов церковного совета в 1698 г., составленный секретарем австрийского посольства И. Г. Корбом [15, с. 145, 237].
В круг предназначенных для исследования лиц вошли все упоминаемые в этих документах челобитчики и старосты — всего 18 человек (имена многих из них значатся в обеих челобитных, а некоторые фигурируют и в списке старост, что говорит об относительной стабильности общинного ядра). К изучению были выбраны: Питер Бальдус (Петр Балтес); Патрик Гордон оф Охлухрис (Петр Иванович Гордон, Patrick Gordon of Auchleuchries, 1635—1699); Джеймс Гордон (Яков Петрович Гордон, Август Якоб Гордон, 1668—1722); Александер Гордон оф Охинтул (Александр Александрович Гордон, Аухинтоул, Ачентон, Ахентовель, Ахинтон, Alexander Gordon of Auchintoul, 1669—1751); Казимир фон Граге (Крага, Краген, Casimir von Kraghe, уб. в 1700 г.); граф Дэвид Уильям Грэм (фон Граам, Грагм, Грахам, David William Graham, ок. 1639— 1693); Франческо Гуаскони (Франциск Гваскони,
Франц Карпов сын Гвасконий, Francesco Guasconi, 1640 — ок. 1708); Джоаккино Гуаскони (Иоахим Гваскони, Gioacchino Guasconi); Грегор Карбонари де Бизенегг (Григорий Мартынович Карбонарий, Gregorius Carbonarius de Bissenegy, 1651—1717); Логин ле Дитт; Александер Ливингстон (Левинг-стон, Ливинстон, Alexander Livingston, уб. в 1696 г.); Джорджо Лима (Юрий Степанович Лима, уб. в 1702 г.); Пол Мензис (Павел Гаврилович Менезий, Paul Menzies, Meneses, 1637—1694); Бартоломе-ус (Бартоломью) Ронаэр (ум. в 1693 г.); Херман ван Тройен (Иеремия фан Троин, Еремей Петров сын ван Троин, Herman van Troyen); Гавриил Турнер (Габриель Турнье, Turnier); Антон Шмалленберг; Рудольф (Родион) Штрасбург (Страсбург, ум. в 1692 г.).
Исследование отобранных персоналий производилось по девяти признакам, характеризующим социальный и религиозный облик католиков: 1) социальное происхождение и социальное положение в России; 2) национальность; 3) род деятельности или профессия; 4) наличие общего и специального образования, опыт профессиональной деятельности; 5) семейное положение и наличие детей; 6) нравственный облик; 7) полученное религиозное образование или воспитание; 8) участие в таинствах и богослужениях; 9) активность в церковных делах.
Многие лица из инициативного ядра московской католической общины (не менее 12 человек из 18) принадлежали к знатным дворянским или даже аристократическим фамилиям Европы, хотя и не были представителями их главных, титулованных ветвей. Патрик Гордон оф Охлухрис, его сын Джеймс (Яков) и Александер Гордон оф Охинтул представляли собой древний шотландский род Гор-донов1. Дэвид Уильям Грэм оф Морфи происходил из младшей (баронской) линии лордов Грэм и являлся ближайшим родственником многих графов и маркизов Шотландии, хотя есть основания считать, что его собственный графский титул был самозваным (по законам своей страны, будучи младшим наследником, он не имел права именоваться даже «бароном Морфивским») [17, с. 60]. Благородным происхождением мог похвастаться Александер Ливингстон — его предки в XV столетии, во время регентства графа Дугласа при малолетнем Якове II, управляли Шотландией. Пол Мензис сам состоял в тесном родстве с королевским домом Стюартов; его отец происходил из баронов Питфодельс (поэтому в папских документах москвич-католик иногда фигурирует как барон ди Питфодельс), а мать была урожденной графиней Сазерленд [33, с. 8—9, 181]. Оба брата Гуаскони принадлежали к аристократическому флорентийскому семейству, издавна занимавшемуся коммерцией [14, с. 291]. Доктор Г. Карбонари в официальных документах именуется «шляхетным» человеком [21, л. 2]. Родственник второй жены Патрика Гордона Б. Ронаэр и зять прославленного генерала-шотландца Р. Штрасбург определенно имели дворянское достоинство, по- скольку П. Гордон трепетно относился к сохранению дворянской чистоты рода [7, с. 125]. Частица «фон» при фамилиях Граге и Турнер, в свою очередь, свидетельствует об их принадлежности к благородному сословию, хотя каких-то определенных сведений о социальном происхождении Казимира Граге и Гавриила Турнера найти не удалось.
Между тем родовитость и высокий общественный статус, каким обладали многие католики в среде московских иноземцев, не гарантировали им пиетет со стороны российских властей. Правители и вельможи, а в ряде случаев и приказные служители, могли откровенно третировать даже самых знатных «немцев». Например, в январе 1699 г. Ф. А. Головин и кн. Ф. Ю. Ромодановский проявили крайнее неуважение к царскому врачу Г. Карбонари, который незадолго до того вызвал раздражение царя Петра. Поводом к опале послужило нежелание Г. Карбонари немедленно исполнить царское приказание и явиться к одному больному. Приказание было передано рядовым аптекарем в тот момент, когда лейб-медик находился на званом обеде у императорского посла И. Х. Гвариента, причем аптекарь вел себя настолько невежливо и так грубо нарушал правила этикета, что возмутился не только Г. Карбонари, но и господин посол [15, с. 115—117]. В ходе этой истории Г. Карбонари пытался отстоять свою честь в европейском ее понимании, но в итоге потерял расположение царя — спустя почти год иезуиты писали, что врач вряд ли сумеет снова стяжать милость его величества [18, с. 72]. Патрик Гордон в 1691 г. в письме советовал своему приятелю Д. У. Грэму воздерживаться от конфликта с Б. П. Шереметевым, резонно замечая: «уверяю Вас, невозможно кому-либо из нас тягаться с кем-либо из них. Итак, лучше снести кое-какие вещи, что могут показаться или быть резкими, чем негодовать на оные» [10, с. 103].
По национальному признаку ядро общины на % состояло из шотландцев — в него входили «шкот-ские немцы» П. Гордон, Дж. Гордон, А. Гордон, Д. У. Грэм, А. Ливингстон и П. Мензис. В равных долях (по три человека) были представлены голландцы (П. Бальдус, Б. Ронаэр, Х. ван Тройен), немцы (К. фон Граге, А. Шмалленберг, Р. Штрасбург) и итальянцы (Ф. Гуаскони, Дж. Гуаскони, Дж. Лима). Л. Ле Дитт и Г. Турнер, возможно, были французами, а Г. Карбонари, австрийский подданный, отмечен в документах как выходец из Словении, но грек по национальности.
Социопрофессиональный состав основной части общины был разнородным, между тем очевидно значительное преобладание в ней военнослужащих (12 из 18 человек). Офицерами царской армии являлись: П. Гордон (майор с 1661 г., генерал-майор с 1678 г., полный генерал с 1687 г. 2); Дж. Гордон (подполковник с 1690 г., полковник с 1693 г.); А. Гордон (майор с 1696 г., полковник с 1697 г., генерал-майор с 1709 г.); К. Граге (инженер, артиллерийский полковник с 1696 г. [26, л. 690]);
Д. У. Грэм (генерал-майор с 1682 г. [33, с. 587— 588]); А. Ливингстон (капитан солдатского строя с 1666 г., полковник с 20 октября 1677 г. [8, с. 51]); Дж. Лима (подполковник с 1678 г., первый русский вице-адмирал в 1696—1698 гг., полковник с 1699 г. [4, с. 214—215; 26, л. 692; 35, с. 563]); П. Мензис (капитан пехоты с 1661 г., майор с 1662 г., рейтарский полковник с 1674 г., генерал-майор с 1688 г. [33, с. 10—12, 48, 70]); полковник Б. Ронаэр; Г. Турнер (полковник в 1684—1693 гг. [9, с. 171; 11, с. IV; 23, л. 1; 30, с. 547]); А. Шмалленберг (полковник в 1684—1693 гг. [10, с. 145, 185; 11, с. IV]); Р. Штрасбург (подполковник в 1682—1689 гг., полковник с 1689 г. [33, с. 604]). Трое из 18 человек были купцами, не одно десятилетие торговавшими с «московитами» (Ф. и Дж. Гуаскони обосновались в России с 1660-х годов [34, с. 58—59], Х. ван Тройен — с 1640-х годов [12, с. 80; 19, л. 5]). Меньше всего в составе выделенной группы католиков было лиц гражданских специальностей: среди церковных распорядителей и «старост» обнаруживаем только двух влиятельных и богатых ремесленников — «стекольщика» П. Бальдуса, который входил в управленческий аппарат измайловского стекольного завода, и ювелира Л. Ле Дитта. Кроме них к гражданским специалистам можно отнести врача Г. Карбонари, прибывшего к царскому двору в 1689 г. [21, л. 1].
Ядро католической общины на 100 % состояло из грамотных людей — все отмеченные лица не только могли уверенно поставить свою подпись, но и успешно справлялись с подготовкой служебных отчетов, сочиняли реляции (военнослужащие), заключали договоры (купцы), становились авторами челобитных, писали пространные письма друг другу и корреспондентам за границей. Об этом свидетельствуют многочисленные источники — например, дневник П. Гордона, состоявшего в переписке с большинством лиц, чьи биографии подвергнуты анализу, а также документы Посольского и Иноземского приказов. Среди московских «латинян» было немало высокообразованных людей, причем не только по российским, но и по западноевропейским меркам. П. Гордон получил начальное образование в приходских школах Круден и Эллон (Истер Охлух-рис, Шотландия), некоторое время пользовался услугами домашнего учителя, а затем продолжил учебу в высшем заведении — иезуитской коллегии в Браунсберге (Восточная Пруссия) [6, с. 6—9]. Правда, в коллегии П. Гордон не прошел полного курса наук, сбежав от иезуитов, чтобы быстрее начать военную карьеру, однако в целом будущий российский генерал потратил 13 лет на получение знаний в различных школах. В дальнейшем путем самообразования П. Гордон достиг немалых высот в разных областях знания, став одним из самых образованных людей в тогдашней России [27, с. 235]. Разносторонне развитым и очень образованным человеком был П. Мензис, учившийся в шотландской (эмигрантской) иезуитской коллегии в Дуэ (Фландрия) и удивлявший педагогов своими успехами [33, с. 9, 47, 559]. Гордон-младший (Джеймс) учился в России и Шотландии, а в 1685—1687 гг. занимался в иезуитских коллегиях Данцига и того же Дуэ; помимо родного английского, он знал русский, латин- ский, французский, немецкий и польский языки [9, с. 81, 157, 230]. А. Гордон до четырнадцатилетнего возраста учился в сельской школе в Охинтуле, затем в течение четырех лет продолжал обучение в Париже [36, с. IV—V]. О высоком образовательном уровне свидетельствует написанная им «История Петра Великого» — многогранное и глубокое историко-публицистическое сочинение.
В XVII столетии ни в странах Западной Европы, ни тем более в России, еще не существовало сложившейся системы профессионального военного или инженерного образования. Поэтому среди офицеров и ремесленников-технологов мы не находим людей с дипломами «по специальности» — отсутствие документов о профессиональном обучении, как правило, тогда возмещалось богатым практическим опытом. Так, П. Гордон ко времени вступления в русскую службу уже обладал обширными познаниями и практическими навыками в сфере военного и инженерного дела, особенно в области фортификации, не уставая и в дальнейшем совершенствоваться в избранной профессии [1, с. 162—163; 28, с. 443]. Немалый опыт имел А. Гордон оф Охинтул, до приезда в Россию пять лет прослуживший в войсках английского короля Якова II (прапорщиком, затем поручиком), а затем столько же — в армии Людовика XIV, пожаловавшего его капитаном своей пехоты [13, с. 239; 22, л. 3]. Впечатляющим был послужной список «графа фон Граама», который в челобитной царю Федору Алексеевичу заявлял: «Служил я, иноземец, двадцать два года в разных государствах — и цесарскому величеству римскому в Венгерской земле против турок, и королю гиспанскому против короля францужского, и Яну Казимиру королю польскому против бунтовщиков (…) Да я ж служил курфисту Бавиерскому (Баварскому — ред .) и везде в службах полки чинил и городы брал без малой утери людей…» [33, с. 427]. Впрочем, не все католики могли похвастаться большим опытом профессиональной деятельности до поступления на службу к «московитам»: Дж. Гордон храбро, но недолго (в 1688—1689 гг.), сражался за английского короля Якова II — сначала в чине прапорщика, а затем капитана [30, с. 489]; П. Мензис прослужил всего лишь год с небольшим в войске польского короля Яна Казимира, хотя и успел дослужиться до майора [33, с. 10]. Генуэзец Дж. Лима (по другим источникам — венецианец), назначенный в 1696 г. российским вице-адмиралом, по-видимому, мало смыслил в морском деле, почему и был вскоре заменен более опытным К. Крюйсом [3, с. 627; 4, с. 215]. При этом Дж. Лима являлся опытнейшим минером («подкопным мастером») — представителем редкой в России военной профессии. Вероятно, единственным дипломированным специалистом в церковном совете был врач Г. Карбонари — доктор философии и медицины, специализировавшийся на детских болезнях, а также болезнях «главы», «почечных» и др., предъявивший «диплом на врачество» от имени князя Лодовико Сфорца, а также свидетельства о докторской степени, подписанные известными в папской области учеными — доктором богословия иезуитом Григорием Путтнером и доктором медицины Юстинианом Комнином [20, л. 11, 46].
Члены исследуемого коллектива в подавляющем большинстве (12 из 18 человек) были женаты и имели детей, причем у десяти из них семьи находились в Москве или иных русских городах, где католикам доводилось служить. Р. Штрасбург с 1682 г. был женат на дочери П. Гордона Кэтрин Элизабет, постоянно жившей в Москве [29, с. 280]. 4 января 1692 г. от полученных при устройстве фейерверка ожогов Р. Штрасбург скончался, и после нескольких лет вдовства Кэтрин Элизабет вышла замуж за А. Гордона оф Охинтул (15 февраля 1698 г.) [10, с. 122]. Дети от этого брака умерли в раннем возрасте [30, с. 579]. Супруга Ф. Гуаскони Людовина состояла в духовном родстве с П. Гордоном: в 1688 г. она стала крестной матерью для его дочери Джоанны, а в 1693 г. — для сына Джорджа Хила-риуса [9, с. 170; 10, с. 223]. В 1698 г. Людовина Гуаскони и ее дочь упоминаются среди участниц царского пира [15, с. 99]. Сведения о супруге П. Бальдуса обнаруживаем в дневнике П. Гордона — она скончалась в Москве 29 июня 1692 г. (по всей видимости, в родах) после отъезда мужа в Голландию по делам стеклянного завода («Жена П. Бальдуса умерла, а сын окрещен» [10, с. 139]). Л. Ле Дитт женился на московской иноземке-вдове — П. Гордон упоминает о его сыне и пасынках (сыновьях «госпожи Ле Дитт») [10, с. 138, 224, 243]. А. Ливингстон был женат дважды, и обе его супруги проживали в Немецкой слободе. Первая из них была восприемницей сына П. Гордона Питера, 9 мая 1692 г. она скончалась [10, с. 79, 135—136]. В ноябре 1692 г. А. Ливингстон вновь женился [10, с. 147, 149]. Источники сохранили имя только одной его супруги (первой или второй — неизвестно) — Элизабет Арентсон [9, с. 178; 10, с. 131, 228; 30, с. 511]; в обоих браках рождались дети. П. Мензис тоже дважды вступал в брак: осенью 1662 г. он венчался с иностранкой-католичкой («con Dama Moscovita») из Немецкой слободы, имя которой нам неизвестно [33, с. 12, 175]. «Dama Moscovita» скончалась примерно в 1674 г., оставив мужу сына Томаса [33, с. 656]. 11 февраля 1677 г. П. Мензис женился на Маргарите (Марии) Марселис (урожденной Беккер фон Дельден), вдове тульского заводчика Питера Марселиса [8, с. 7], которая родила ему как минимум четверых детей: Магнуса (Максима), Джона (Ивана), Эндрю (Андрея) и дочь Кэтрин (Екатерину) [9, с. 164, 166—170; 30, с. 562]. Известно, что в браке состоял Дж. Лима, женившийся на Элизабет Англер, дочери иноземного полковника (один из его сыновей, Джордж, умер в 1695 г. [10, с. 432; 15, с. 237]). Б. Ронаэр был женат, поскольку П. Гордон выступал в роли крестного его детей [9, с. 134].
Семейными узами были связаны Д.У. Грэм и Г. Карбонари, однако, в отличие от других католиков, они предпочли оставить своих жен за границей. «Граф фон Граам» женился еще в 1676 г., в бытность на службе у баварского курфюрста. Его супруга Мария Терезия фон Лаэнхаген (Лазенгажен) была дочерью синдика города Аугсбурга и принесла ему немалое состояние. Быстро промотав деньги жены, Грэм уже в 1678 г. бросил ее с двумя детьми и отправился за границу [33, с. 578]. Мария Терезия, проживавшая в Вене, требовала регулярно при- сылать ей деньги, но «шотландский граф» не был намерен содержать оставленную семью. Разразился большой скандал, который приобрел международный характер: за «графиню фон Граам» вступилось имперское правительство, и московские власти были вынуждены повелеть служилому «шкотскому немцу» приложить «старание восстановить семейную жизнь» [32, с. 85]. Этот опыт «международного взыскания алиментов» [16, с. 160—163] не имел последствий: Грэм согласился на выезд жены и детей в Россию, но до самой своей смерти (он скончался 12 мая 1693 г.) так и не пожелал предоставить необходимые на переезд средства, отговариваясь отсутствием денег.
В схожем положении оказалась и супруга Г. Карбонари, которая тоже пребывала в Вене. Мадам Карбонари энергично выражала свое недовольство поведением мужа: она укоряла его «в неверности к ней, в крайне непечатных выражениях говорила ему об обольщенных им женщинах и требовала от него присылки денег, угрожая в противном случае осрамить его пред государями» [32, с. 84—85]. Опасаясь публичного скандала, доктор призвал супругу в Москву и урегулировал семейный конфликт. В 1698 г. «дохтурица» уже была в Москве [15, с. 55]. Как раз в это время после очередной задержки жалованья доктор в шутку даже предлагал царю Петру взять «мадам Карбонари» в залог или купить, чем немало развеселил монарха [15, с. 100].
Сведений о семейном положении К. Граге, Дж. Гуаскони, Х. ван Тройена, Г. Турнера и А. Шмалленберга в нашем распоряжении нет. Из перечня католиков, чьи биографии взяты для исследования, документально подтвержден статус холостяка только у одного — Джеймса Гордона, сына Патрика. В начале 1690-х годов Джеймс предпринимал попытки найти себе спутницу жизни, но из-за отсутствия подходящей партии и, надо полагать, по причине природной склонности к безбрачному состоянию скоро вовсе оставил идею женитьбы [10, с. 111—112, 195—196]. В ходе поездки на Мальту в 1706 г. он стал кавалером Ордена св. Иоанна Иерусалимского и официально дал обет безбрачия, который сохранял до конца своих дней [30, с. 489].
Непростые внутрисемейные отношения у московских католиков актуализируют вопрос об их нравственных характеристиках — вопрос немаловажный в свете поставленных религиозноантропологических задач, но вряд ли разрешимый. Подоплека и перипетии семейных конфликтов у Д. У. Грэма и Г. Карбонари в свое время позволили Д. В. Цветаеву утверждать факт нравственного нездоровья общины в целом. Проанализировав обстоятельства частной жизни только двух человек (генерал-майора и лейб-медика), историк заметил: «Это еще более осветило внутреннюю жизнь близкого к выгнанным иезуитам московского кружка» [32, с. 85]. Тем не менее вряд ли можно согласиться с выводом о том, что нецеломудренное и безответственное по отношению к женам и домочадцам поведение являлось типической чертой католического микро-социума. Можно утверждать, что в Москве существовало немало крепких католических семейств со здоровым психологическим климатом — к ним в первую очередь нужно отнести семейства П. Гордона и П. Мензиса. Генерал П. Гордон славился своей приверженностью семейным ценностям, чтил и защищал институт брака как богоустановленный [2, с. 9—10]. Его друг Мензис, судя по гордоновским запискам, имел схожее мировоззрение, был хорошим семьянином, к тому же очень честным и скромным человеком (поэтому и «не составил себе состояния» [33, с. 68]). На основании дневника П. Гордона можно реконструировать отношения в семье Р. Штрасбурга, породнившегося с автором записок, — эти отношения, очевидно, соответствовали высоким моральным стандартам. В чем-то старался походить на П. Гордона полковник А. Ливингстон, который, женившись вторично, подобно знаменитому земляку, отмечал поминальным обедом годовщину смерти своей первой жены [10, с. 208]. Вообще следует обратить особое внимание на то, что выделенный круг католиков составлял, по сути, одну большую семью, главой которой выступал П. Гордон. Это была одна семья — как в социальном, так и духовном смысле, поскольку многие члены ядра общины либо кровно породнились с П. Гордоном (Р. Штрасбург и А. Гордон оф Охинтул — зятья генерала, Б. Рона-эр — родственник второй жены), либо стали его духовными родственниками. Так, восприемницами в святом крещении детей генерала, как уже было отмечено, источники называют супруг Ф. Гуаскони и А. Ливингстона; Г. Карбонари приходился крестным отцом Джорджу Хилариусу, сыну П. Гордона, а П. Мензис стал восприемником внука последнего [10, с. 81, 223]. В сентябре 1694 г., за несколько месяцев до своей кончины, П. Мензис письменно поручил П. Гордону воспитывать в католической вере своих сыновей (их мать, вторая жена Мензиса, была протестанткой), и генерал дал обет пестовать их как своих собственных детей [10, с. 296]. Подробности биографии многих членов общины оттеняют выдающуюся роль П. Гордона в духовном развитии прихода. Именно П. Гордон задавал тон во взаимоотношениях католиков друг с другом и окружающими людьми, формировал модели социального поведения. Своим примером он пропагандировал близкие ему традиционные ценности крепкой и набожной семьи, хотя не все руководствовались этими ценностями. Так, генерал Гордон не раз советовал Д. У. Грэму (между прочим, троюродному брату П. Мензиса) помириться с супругой и взять не себя ее содержание, однако тот не отвечал «ничего удовлетворительного» [10, с. 179].
Авторитет П. Гордона среди «домашних» прекрасно иллюстрируется данными об обращении в католичество тех его родственников и друзей, кто изначально исповедовал протестантскую веру. В данном случае речь идет о Б. Ронаэре и Р. Штрасбурге. Б. Ронаэр сначала был прихожанином Голландской реформатской кирки в Москве, с ним Гордон подружился уже после женитьбы на Элизабет Ронаэр. 1 января 1687 г. П. Гордон стал крестным отцом для сына Б. Ронаэра (крещение производилось в реформатской кирке Немецкой улицы) [9, с. 134]. Однако уже в декабре 1689 г.
«полковник Барталамко Ренорер» числился среди виднейших католиков. Р. Штрасбург, в свою очередь, перешел в католичество из реформатской веры — по настоянию и при прямом содействии тестя [10, с. 66; 32, с. 84].
Как видим, не все члены общинного ядра первоначально исповедовали католическую веру: Б. Ро-наэр и Р. Штрасбург определенно были воспитаны в реформатских традициях, но, судя по дневнику П. Гордона, находясь в тесном общении с главой российских шотландцев, быстро восполнили недостающие им знания и приобщились к католической религиозной культуре. Католическое воспитание и специальное религиозное образование в коллегиях получили только П. Гордон, Дж. Гордон и П. Мензис; однако, памятуя о роли семейно-родственных отношений в развитии общины, можно предположить, что не только Б. Ронаэр и Р. Штрасбург, но и иные католики духовно развивались благодаря более образованным и сведущим в вероисповедных вопросах товарищам.
Ограниченность источников (отсутствие церковных книг, фиксирующих частоту причащений) крайне затрудняет решение вопроса об участии тех или иных лиц в богослужениях и не позволяет сделать окончательные выводы о степени проявляемого ими интереса к церковным таинствам. Тем не менее дневник П. Гордона дает основание утверждать, что более половины католиков из состава ядра общины регулярно присутствовали на мессах и обращались к патерам за исполнением треб. Без сомнений, сын, а также оба зятя П. Гордона следовали правилам поведения, установленным в семье этого знатного шотландца, и в бытность в Москве не упускали возможность побывать на мессе, исповедаться и воспринять Святое Таинство [2, с. 6—12; 10, с. 362]. Р. Штрасбург проявил особое благочестие перед кончиною: помимо причастия он дважды соборовался [10, с. 93—94, 122]. Репутацией набожных людей пользовались Ф. Гуаскони и Г. Карбонари — некоторые католики перед смертью поручали им религиозное воспитание своих детей. Например, в семье Ф. Гуаскони воспитывалась дочь умершего подполковника Хэмилтона, а «господин Карбонари» должен был вместе с П. Гордоном наставлять в вере сыновей П. Мензиса (последний, в свою очередь, был фанатично предан католичеству) [10, с. 205, 296, 308, 311].
Развернутых данных о богослужебном усердии других католиков у нас нет, однако источники отмечают факт участия в мессах К. Граге [15, с. 68, 73], посещения Д.У. Грэмом прощальной проповеди архиепископа Себастьяна Кнабе, произнесенной 2 марта 1684 г. [9, с. 13], а также факт благочестивой кончины А. Шмалленберга [18, с. 63]. Как оказалось впоследствии, менее всего католической верой дорожил Г. Турнер — в 1693 г. из соображений выгоды он принял греческое вероисповедание [10, с. 205]. Этот факт — единичный применительно к исследуемой группе верующих — по-видимому, отражает довольно распространенную практику отступления католиков от своей религии. Потому что если такой случай имел место среди устроителей и попечителей костела, то наверняка переходы в православие (или в протестантские «законы») происходили у тех, кто был слабее связан с приходом.
Деятельность католиков по обустройству церкви и управлению приходом отражена в источниках намного лучше, нежели участие верующих в богослужениях. С одной стороны, круг избранных лиц («ядро общины») прямо подразумевает высокую церковно-деловую активность, априори констатируемую в качестве важнейшей черты социальнопсихологического портрета «латинян». Однако, с другой стороны, степень реального участия в решении церковных дел даже у членов общинного ядра была разной — например, никак не проявил себя в качестве церковного организатора Р. Штрасбург1. Вряд ли можно предполагать большую активность в решении церковных дел у будущего вероотступника Г. Турнера.
В любом случае, для воссоздания коллективного портрета католиков имеет смысл конкретизировать их церковную работу, выявив главные ее направления и характер. В первую очередь, ведущие католики оказывали материальную помощь приходу (жертвовали средства на церковное строительство и содержание духовенства), а также занимались решением финансовых вопросов. Среди главных действующих лиц здесь — П. Гордон, чья церковноадминистративная работа хорошо изучена [1, с. 164—165], Ф. Гуаскони, Г. Карбонари и П. Мензис [10, с. 236, 256, 258]. Помимо них, деньги на строительство, реконструкцию и украшение церковных помещений давал А. Ливингстон [10, с. 255, 320]. Позднее главным церковным благотворителем стал Дж. Гордон, в 1706 г. внесший 2 тыс. империалов на постройку каменного храма [18, с. 158, 195].
Поскольку возведение латинской церкви с формально-юридической точки зрения тогда еще было запрещено, большие усилия были направлены на организацию и даже конспирацию строительных работ. Широкую деятельность в этом отношении развернул Ф. Гуаскони, возводивший каменный костел под видом фамильной усыпальницы Гордонов [31, с. 44—45; 32, с. 107—109]. Флорентийский купец выступал вторым после П. Гордона предводителем московских католиков уже с начала 1680-х годов [9, с. 163]. В период пребывания П. Гордона в Киеве одним из главных распорядителей московской католической общины также выступал генерал-майор Д.У. Грэм [32, с. 42].
Еще одним важным направлением церковной деятельности московских католиков стало налаживание контактов и поддержание отношений между общиной и внешними социально-политическими институтами — другими объединениями верующих, органами власти (гражданской и церковной, причем как в России, так и за границей), духовенством орденских провинций. Все это делалось в интересах развития прихода. Так, П. Мензис вместе с П. Гордоном в январе 1686 г. лично вели переговоры с В. В. Голицыным относительно дозволе- ния священника в Москве, а затем поддерживали переписку с иезуитом Иоганном Шмидтом после его отъезда из России [9, с. 86, 181]. А. Ливингстон выступал посредником между общиной и Посольским приказом — в частности, в 1692 г. полковник от своего имени подал в приказ ведомость об отъезжающих за рубеж католиках [25, л. 4]. Дж. Лима был доверенным лицом доминиканца Вильгельма Фелля, взявшегося выхлопотать у папы разрешение посылать в Россию миссионеров разных орденов и наций, а не только австрийских иезуитов [18, с. 206]. Дж. Гордон в 1706 г. непосредственно обсуждал с папой Римским перспективы развития католичества в России [18, с. 162]. Ф. Гуаскони был признан как наиболее подходящий посредник в банковских делах миссии и общины [18, с. 105, 125]. Д. У. Грэм и П. Бальдус покровительствовали иезуиту Иржи Давиду в его бытность в Москве, защищая монахов «Ордена Иисуса» перед властями и помогая деньгами [24, л. 5]. Обратим внимание на то, в каких выражениях И. Давид благодарит «кристального мастера Петра Балтеса»: «Высокопочтенный и возлюбленный господин! Должность моя духовная обязывает меня до совершенного отшествия моего из России принести тебе достойную благодарность за твою любовь и благодеяние, что исполняю теперь вкратце. Да воздаст вам всем Бог, что вы нас сподобили благодеянием своим! Мы же то будем воспоминать в молитвах наших, вручая Богу тебя, господина, и дом твой…» [24, л. 8]. Бальдус, видимо, был очень влиятельным и обеспеченным членом общины.
В то же время следует заметить, что при всей преданности католиков своей вере, усердии к мессам и активном отношении к церковным делам, отсутствуют какие-либо данные об их попытках посеять «папизм» среди русских. Убежденность историков (Д. В. Цветаева и иных) в прозелитиче-ском настрое католиков-мирян не подтверждается реальными фактами и основана лишь на сведениях о тесных связях деятелей общины с иезуитскими миссионерами. Действительно, московские священники в глазах Римской курии являлись в первую очередь миссионерами, поэтому прихожане костела, поддерживая их, косвенным образом содействовали и развитию католической миссии. Однако ни в тайной переписке иезуитов (неизвестной тогда русским властям), ни в материалах Посольского приказа в связи с высылкой иезуитов из России (русские власти специально выискивали доказательства вредоносной деятельности католиков) нет упоминаний о фактах или даже о попытках совращения православных в римскую веру кем-либо из прихожан костела. Анализ церковной деятельности московских католиков демонстрирует явное преобладание тех ее направлений, которые обеспечивали стабильность приходской жизни, а не миссионерской работы. Пожалуй, только Г. Карбонари мог быть заподозрен в укреплении собственно латинского миссионерства (он прибыл в Россию по поручению императора не только в качестве врача, но и как агент иезуитов с особым заданием, «…дабы то того лутчи тех богомолие к самому костелу прибавливалось» [20, л. 6 об.]). Однако и доктор ни разу не был уличен в прозелитизме, да и не выражал открыто к нему склонность, как это делали некоторые католики с наступлением XVIII в. (например, М. Змаевич в Петербурге [37, с. 469]).
Обобщение и сравнение социальных характеристик представителей ядра столичной общины позволяет воссоздать образ типичного московского католика конца XVII столетия. Это западноевропеец из хорошей дворянской семьи, профессионал в своем деле, широко образованный, сведущий в самых разных областях социальной жизни. Он, как правило, почтенный отец семейства (что, без сомнений, повышало доверие к нему со стороны русского общества и властей), занимающий довольно высокое социальное положение, «укоренившийся» в России. Такие люди были необходимы стране, вступающей на путь модернизации и стремящейся заимствовать европейские знания и профессиональный опыт. В своем большинстве воцерковленные католики не были случайными искателями приключений: хотя русское подданство они и не принимали, с Россией их крепко связывали долголетняя служба и статус семейных людей, что, кстати, делало их еще более ценными для общества с выраженной ксенофобией. При этом типичный московский католик — это преданный своей религии человек, осознающий потребность в богослужении и таинствах и потому уделяющий много внимания делам внутри прихода. Активная конфессиональная позиция и целенаправленная церковная деятельность «латинян» препятствовали их ассимиляции, а также вместе с другими социальными качествами открывали перспективы формирования новых межконфессиональных отношений в России.
Конечно, воссозданный коллективный портрет вобрал в себя черты далеко не всех проживавших в Москве католиков, а только представителей верхушки общины, или правильнее, — ее сердцевины. Однако полученная картина все же представляется вполне адекватной исторической реальности, если учесть, что община не была многочисленной (насчитывала всего несколько десятков человек1) и всегда включала в себя немало маргиналов, способных легко приходить в религиозный коллектив и покидать его, или просто числиться в его составе. Настоящие католики — воцерковленные, убежденные в своей вере — в условиях России XVII столетия неизбежно оказывались в ядре общины. Своими социальными параметрами они хорошо подходили на роль главных проводников и ускорителей российской модернизации. Многие из них обладали большими возможностями для влияния на русское общество — насколько эти возможности оказались реализованными, должно показать отдельное исследование.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-31-01011-ОГН «Патрик Гордон и московская католическая община конца XVII в.»
Список литературы Социальный облик московских католиков конца XVII столетия: опыт просопографического исследования
- Андреев, А. Н. Католик Патрик Гордон и русское общество конца XVII столетия / А. Н. Андреев, Ю. С. Андреева // Вопросы истории. - 2018. - № 5. - С. 162-175.
- Андреев, А. Н. Патрик Гордон как религиозный тип / А. Н. Андреев // Вестник ЮУрГУ. Сер.: Социальногуманитарные науки. - Т. 18. - 2018. - № 1. - С. 6-13.
- Военная энциклопедия: в 18 т. / под ред. В. Ф. Новицкого. - Т. 14. - СПб.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1914. - 549 с.
- Военный энциклопедический лексикон: в 14 т. - Т. 8. - СПб.: Тип. штаба военно-учебных заведений, 1855. - 739 с.
- Гиндилис, Н. Л. Просопография в науковедении 80-х годов / Н. Л. Гиндилис // Метафизика и идеология в истории естествознания. - М.: Наука, 1994. - С. 141-152.
- Гордон, П. Дневник, 1635-1659 / Патрик Гордон; пер., ст., примеч. Д. Г. Федосова. - М.: Наука, 2000. - 278 с.
- Гордон, П. Дневник, 1659-1667 / Патрик Гордон; пер., ст., примеч. Д. Г. Федосова. - М.: Наука, 2002. - 314 с.
- Гордон, П. Дневник, 1677-1678 / Патрик Гордон; пер., ст., примеч. Д. Г. Федосова. - М.: Наука, 2005. - 233, [2] с.
- Гордон, П. Дневник, 1684-1689 / Патрик Гордон; пер., ст., примеч. Д. Г. Федосова. - М.: Наука, 2009. - 339 с.
- Гордон, П. Дневник, 1690-1695 / Патрик Гордон; пер., ст., примеч. Д. Г. Федосова. - М.: Наука, 2014. - 620 с.
- Дело по прошению генерал-поручика Петра Гордона с другими иноземцами католического вероисповедания о молитвенном доме и пастыре // Д. В. Цветаев. Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII вв. - М.: Университет. тип., 1886. - С. III-IV.
- Демкин, А. В. Западноевропейские купцы в России в XVII в. / А. В. Демкин. - Вып. 2. - М.: Ин-т росс. ист. РАН, 1994. - 112 с.
- Документы, касающиеся прибывших в Россию членов рода Гордонов и хранящиеся в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел // Дневник генерала Патрика Гордона, веденный им во время его польской и шведской служб от 1655 до 1661 г. и во время его пребывания в России от 1661 до 1699 г. - Ч. 2. - М.: Унив. тип., 1892. - С. 199-244.
- Карданова, Н. Б. Письма флорентийского купца Франческо Гваскони из Москвы от 25 июня и 17 июля 1696 г. и неизвестный русский оригинал / Н. Б. Карданова // Русский язык и культура в зеркале перевода: материалы междунар. науч. конф. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2015. - С. 290-311.
- Корб, И. Г. Дневник путешествия в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента / Иоганн Георг Корб // Рождение империи. - М.: Фонд Сергея Дубова,1997. - С. 21-258.
- Ноздрин, О. Я. Шотландцы в России конца XV - начала XVIII веков: дис. … канд. ист. наук. - Орел, 2001. - 227 с.
- Ноздрин, О. Я. Ne oublie. Происхождение и родственные связи генерал-поручика Дэвида Уильяма Грэма, известного как граф Граам, барон Морфийский / О. Я. Ноздрин // Studia internationalia: материалы III междунар. науч. конф. «Западный регион России в международных отношениях X-XX вв.» 2-4 июля 2014 г. - Брянск: Ладомир, 2014. - С. 54-64.
- Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII вв. Иржи Давид. Современное состояние Великой России, или Московии. - Рязань: Александрия, 2010. - 336 с.
- РГАДА. Ф. 150. Оп. 1 (1676 г.). Д. 2.
- РГАДА. Ф. 150. Оп. 1 (1685 г.). Д. 7.
- РГАДА. Ф. 150. Оп. 1 (1689 г.). Д. 5.
- РГАДА. Ф. 150. Оп. 1 (1696 г.). Д. 1.
- РГАДА. Ф. 152. Оп. 1 (1684 г.). Д. 1.
- РГАДА. Ф. 152. Оп. 1 (1690 г.). Д. 1.
- РГАДА. Ф. 152. Оп. 1 (1692 г.). Д. 1.
- РГИА. Ф. 1646. Оп. 1. Д. 22.
- Федосов, Д. Г. Клинок, перо и «бунташное время» / Д. Г. Федосов // П. Гордон. Дневник, 1659-1667. - М.: Наука, 2002. - С. 234-264.
- Федосов, Д. Г. «От степи к морю» / Д. Г. Федосов // П. Гордон. Дневник, 1690-1695. - М.: Наука, 2014. - С. 435-483.
- Федосов, Д. Г. Примечания / Д. Г. Федосов // П. Гордон. Дневник, 1684-1689. - М.: Наука, 2009. - С. 267- 312.
- Федосов, Д. Г. Примечания / Д. Г. Федосов // П. Гордон. Дневник, 1690-1695. - М.: Наука, 2014. - С. 484- 580.
- Цветаев, Д. В. Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII вв. / Д. В. Цветаев. - М.: Университетская тип., 1886. - [8], 462, LIX с.
- Цветаев, Д. В. История сооружения первого костела в Москве / Д. В. Цветаев. - М.: Университет. тип., 1885. - 130 с.
- Чарыков, Н. В. Посольство в Рим и служба в Москве Павла Менезия (1637-1694) / Н. В. Чарыков. - СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1906. - X, 776 с.
- Шаркова, И. С. Россия и Италия: торговые отношения XV - первой четверти XVIII в. / И. С. Шаркова. - Л.: Наука, 1981. - 208 с.
- Энциклопедия военных и морских наук: в 8 т. / под ред. Г. А. Леера. - Т. 4. - СПб.: Тип. В. Безобразова и Комп, 1889. - 659 с.
- Gordon, A. The history of Peter the Great, Emperor of Russia / Alexander Gordon of Achintoul. - Aberdeen: F. Douglass and W. Murray, 1755. - Vol. 1. - XX, 312 p.
- Theiner, A. Monuments historiques relatifs aux règnes d'Alexis Michaélowitch, Féodor III et Pierre le Grand czars de Russie, extraits des archives du Vatican et de Naples. - Rome: Imprimerie du Vatican, 1859. - 556 p.