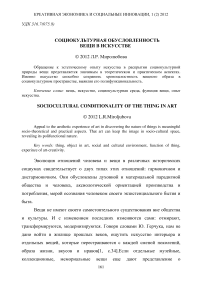Социокультурная обусловленность вещи в искусстве
Автор: Миролюбова Лидия Романовна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Семиотика вещи
Статья в выпуске: 1 (2), 2012 года.
Бесплатный доступ
Обращение к эстетическому опыту искусства в раскрытии социокультурной природы вещи представляется значимым в теоретическом и практическом аспектах. Именно искусство способно сохранить хроноцелостность вещного образа в социокультурном пространстве, выявляя его полифункциональность.
Вещь, искусство, социокультурная среда, функция вещи, опыт искусства
Короткий адрес: https://sciup.org/14238905
IDR: 14238905 | УДК: 316.7(075.8)
Текст научной статьи Социокультурная обусловленность вещи в искусстве
Эволюция отношений человека и вещи в различных исторических социумах свидетельствует о двух типах этих отношений: гармоничном и дисгармоничном. Они обусловлены духовной и материальной парадигмой общества и человека, аксиологической ориентацией производства и потребления, мерой осознания человеком своего экзистенциального бытия и быта.
Вещи не имеют своего самостоятельного существования вне общества и культуры. И с изменением последних изменяются сами: отмирают, трансформируются, модернизируются. Говоря словами Ю. Герчука, нам не дано войти в жилище прошлых веков, ощутить искусство интерьера и отдельных вещей, которые перестраиваются с каждой сменой поколений, образа жизни, вкусов и нравов[1, с.34].Если отдельные музейные, коллекционные, мемориальные вещи еще дают представление о материально-художественной культуре прошлого, то вещи и интерьеры предыдущих эпох исчезли, вместо них появились другие по смыслу и образу.
И только искусство аккумулирует в себе и сохраняет для будущих поколений не только духовную жизнь, но и жизнь вещей. Вот почему понимание социокультурной природы вещи невозможно без обращения к опыту искусства, которое не ограничивается эмпирической данностью взаимотношений человека и вещи, а стремится к постижению глубинных основ этих отношений. Хотелось бы обратиться к таким видам искусства, как живопись и литература.
Прежде всего, речь пойдет об изобразительном искусстве. И это не случайно, так как выразительность образа вещей обусловлена общей художественной, и в первую очередь, изобразительной культурой. Так, живопись как жанр изобразительного искусства передает предметно, зримо образ вещи, среды, несущих на себе чувства, вкусы, настроения, мироощущение человека.
История развития живописи свидетельствует, что вещь постепенно начинает привлекать внимание художников как самостоятельный объект. И если бы вещи не обладали социокультурным содержанием, не несли на себе своеобразный отпечаток духовного начала, то вряд ли бы мог возникнуть такой живописный жанр, как натюрморт[2, с.42].
Становление натюрморта как самостоятельного жанра обусловлено развитием буржуазных общественных отношений, когда искусство решительно порывает с феодальной сословностью, догмами и переходит к всестороннему и полнокровному изображению действительности. Позволю не согласиться с позицией В. Фриче, который развитие натюрморта, как и вообще искусства в целом, поставил в однозначную зависимость от экономических отношений. Фриче явно вульгаризировал сущность натюрморта, когда писал, что «только в глазах буржуазного класса, который воспроизводил вещи и торговал вещами, вещь могла войти в поле зрения художника и стать предметом художественного интереса» [3, с.115]. На самом же деле, вещь смогла стать предметом художественного интереса в силу ее социокультурной значимости.
Творчество лучших мастеров классического натюрморта XVI –XVII вв. (голландская и испанская школы) отражало не «вещный характер буржуазного мировоззрения», а одухотворенное отношение художника к вещному миру. Художественный образ вещи в натюрморте менялся в зависимости от времени и идеалов художника. По верному утверждению В.Н. Сингаевского, в неодушевленных вещах «художники видели особую, скрытую «тихую жизнь» (натюрморт по голландски«Stilleven», что означает в переводе «тихая жизнь», и это слово намного точнее выражает тот смысл, который они вкладывали в изображение вещей, чем привычное для нас «натюрморт» (naturemorte – в переводе с французского «мертвая натура»)» [4, с.108].
Так, натюрморты Питера Класа(1597-1661), первого голландского художника, сосредоточившего внимание на изображении ничем не привлекательных внешне бытовых вещей, демократичны по содержанию. За всеми вещами (курительные трубки, табакерки, жаровни, бокалы, кувшины, тарелки и т. д.), которые с любовью и виртуозной тщательностью изображает художник, стоит простой человек с его заботами и привязанностями.
Несколько другое отношение к вещному миру характерно для испанского художника Франциско де Сурбарана, в натюрмортах которого вещные образы обрели особую одухотворенность и композиционную завершенность. Показателен в этом отношении натюрморт «Посуда и мельница для шоколода», привлекающий внимание тишиной и покоем, исходящими от мерцающего воздуха и вещей.
Неповторимое отношение к вещному миру отличает не только национальные школы, но и отдельных художников одной и той же школы. Так, у испанца Антонио Переды вместо внутренней гармонии вещей на первый план выступает самодовлеющая демонстрация роскоши и богатства их хозяина. «Натюрморт со шкатулкой» скорее напоминает рекламу состоятельности хозяина, а вещи, выставленные для обозрения, заземлены и лишены поэтического звучания.
После расцвета реалистического искусства западноевропейский натюрморт середины XIX века все реже поднимается до гуманистического обобщения вещной среды. Так, в импрессионизме вещи, теряя свои связи с человеком, превращаются в объект поисков декоративной обобщенности и условности цвета. Дальнейший период формалистических исканий западноевропейского натюрморта связан с такими течениями, как «фовизм» и «кубизм». Один из крупнейших представителей «фовизма» Анри Матисс в вещном мире чаще всего видел лишь сюжетную основу для своих ярких и красочных цветопоисков. Кубистический натюрморт Пабло Пикассо выступал как носитель не только художественной, но и социальной деформации вещного мира и самого человека.
В творчестве самого парадоксального художника ХХ века Сальвадора Дали предпринята попытка подняться, в частности, над реальностью вещи.
Определив собственный метод сюрреализма как «параноикокритический, в основе которого «иррациональное незнание», Сальвадор Дали в таких натюрмортах, как «Мягкие часы», «Солнечный столик», «Гигантская летящая кофейная чашка с непонятным отростком пяти метров в длину» и др. полностью порывает с социокультурным бытием вещи.В конечном итоге, образ вещи становится самовыражением иррационально – бессознательного и игнорирует логику человеческого бытия, в том числе, и быта.
И в то же время Сальвадор Дали стремился с помощью вещей проникнуть в тайны природы. Вот как он сам объясняет суть своего «Живого натюрморта»: «Когда… я покажу вазочку кружащейся в пространстве вместе с веером и фруктами, цветной капустой, птицей; бокалом, бутылкой, из которой выливается содержимое…, - все это будет означать, что я решился и начал постигать пространство – время путем созерцания левитации, которая разрушит энтропию».[5, с.95].Эти эксперименты можно объяснять как угодно, но подобные образы вещной среды далеки от социокультурной реальности.
Что же касается вещного образа в русской живописи, то он играл значительную роль в натюрморте и интерьерном жанре, расцвет которых пришелся на первую половину XIX века. В них в первую очередь отражался опоэтизированный светский быт городского и провинциального дворянского дома (школа А. Венецианова, Ф.Толстой, С. Щедрин, К. Зеленцов, В. Штернберг, И. Хруцкий, Г. Сорока и др.).
Это явление нельзя объяснить одной только преемственностью, влиянием старых голландских мастеров или самоцельностью жанра. Так исторически сложилось, что русская культура этого периода способствовала, в частности, поэтизации, эстетизации быта, его вещных форм. А они, в свою очередь, оказывали влияние на искусство. К примеру, интерьеры преддекабристской эпохи являли собой своеобразную модель связи человека с идеалами, со стилем жизни. Романтизация «простой жизни», идеализация личности самого художника активизировали внимание к многочисленным интерьерным изображениям мастерских художников (Н. Зайцев, К. Зеленцов, И. Хруцкий и др.)
Еще раз хочется подчеркнуть, что образы вещей в натюрмортах и интерьерах начала XIX века утверждали идею единства частной жизни и достижений культуры. Изменение социокультурных условий накладывало отпечаток на взаимосвязь человека и вещной среды. Кризис передовой общественной мысли после разгрома декабризма сказался, в частности, и на личной жизни, на способе се организации не только в духовном, но и в вещном плане. Огромную теоретическую ценность представляют взгляды очевидца и философа этой эпохи- П.Я. Чаадаева. Во втором Философическом письме он подчеркивал большое значение быта в условиях утраты обществом подлинных идеалов и ценностей: «...сделайте свой приют как можно более привлекательным, займитесь его красивым убранством, почему бы не вложить в это даже некоторую изысканность и нарядность?... заботы ваши будут иметь целью не вульгарные удовольствия, а возможность всецело сосредоточиться в своей внутренней жизни. Мы живем в стране столь бедной проявлениями идеального, что если мы не окружим себя в домашней жизни некоторой долей поэзии и хорошего вкуса, то легко можем утратить всякую утонченность чувств, всякое понятие об изящном» [6, с.340].
Для 40-50-х годов XIX века характерно крушение прежних идеалов дворянского быта, и на этом фоне появление новой бытовой культуры разночинцев. По верному замечанию Э.Я. Логвинской, художники этого времени ищут в частном быту и его интерьере не его органическую связь с атмосферой всеобщего бытия и движения. «Интерьерные изображения становятся изображениями быта, понятого буквально, а сам быт в эту пору действительно забарахляется»[7, с.92].
Подтверждение сказанному-полотно В. Волоскова «За чайным столом», где образы вещей дробятся, пестрят, существуют самоцельно, являясь, по сути дела, камертоном никчемных притязаний на значимость участников чаепитея.
Становление демократического взгляда на личность и ее идеалы не могло не отразиться на натюрморте и интерьерной живописи. Одним из выразителей критического направления в русской живописи этого времени явился П.А. Федотов, интерьерные изображения которого глубоко раскрывали социальные противоречия эпохи. Художник в совершенстве овладел «вещной» характеристикой образа. В «Свежем кавалере», «Завтраке аристократа» все предметы бытового обихода, интерьера говорят о заурядности и духовной опустошенности чиновничьего мира и выступают, по сути дела, в роли его обличителей.
Особую выразительность приобретают вещи в портретном жанре. Так, например, если сравнивать портреты С. Боткиной и И. Рубинштейн кисти В. Серова, то становится очевидным, что неповторимая индивидуальность этих женских образов достигается благодаря вещному акценту: в первом портрете - изысканный романтизм и цветовое изящество дивана и одежды героини, во втором- цветовой и вещный аскетизм, трагичность.
Вторая половина XIX века характеризуется угасанием интереса художников к натюрмортно - интерьерному жанру. И в то же время идеи демократизма жизни и искусства оказали влияние на художественный образ вещей, представленных в работах передвижников (И. Крамской, Г. Мясоедов, В. Перов, А. Корзухин, К. Лемох, М. Песков, Ф. Журавлев и др.). Так, А. Корзухин (сам из семьи уральских государственных крепостных) в таких работах, как «Бабушка с внучкой», «Игра в карты», «У краюшки хлеба» создает образ вещей, поднимающийся до обобщения бед и надежд простых людей, в том числе, и детей.
Нельзя не вспомнить колоритные полотна Б. Кустодиева, на которых запечатлен дореволюционный провинциальный быт («Красавица», «Купчиха за чаем», «Утро», «Московский трактир»). Именно на них, по словам В.М. Соловьева, «с любовью выписанные предметы быта, добротная мебель, давно обжитое, уютное и теплое пространство, в котором художник размещает своих лавочников, извозчиков, купчих в цветастых платьях,- все это в высшей степени убедительно и поражает достоверностью деталей»[8, с.22].
Закат Серебряного века русской культуры обусловил, в частности, появление русского авангардизма в живописи (М. Ларионов, Н. Гончарова, В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов, Р. Фальк, М. Шагал). В работах этих художников вещь как социокультурный феномен «развеществлялась», утрачивая связь со временем, с национальной культурой, наконец, с внутренним миром самого человека.
Начальный этап развития образа вещи в советской живописи знаменует собой неоднозначное отношение художников к происходящим революционным и постреволюционным событиям: крушению духовного наследия прошлого, насаждению новых идеологических ценностей. Так, например, на полотне Г. Ряжского «Делегатка», где изображена «простая» советская женщина- общественница, отдающая себя целиком великому делу строительства нового общества, большую роль играет ее одежда: красная косынка, бесформенная блузка, мешковатая юбка. Даже если бы у портрета не было названия и даты его создания (1927 г.), можно было бы в свете социологического типажа определить советскую эпоху и насаждаемый идеал женщины-революционерки, общественницы, труженицы.
Активно-творческое отношение к вещному миру отличает лучшие натюрморты советских художников К. Петрова-Водкина, И. Машкова, В. Яковлева, М. Сарьяна, И. Голицына, Вал. Полякова, Г. Захарова и др.
Не менее плодотворно обращение художественной литературы к раскрытию характера и сущности героев через отношение к вещам. Функции вещи в литературе никогда не сводились к пассивному фону или созерцательному символу культуры.
Лучшие представители мировой и отечественной литературы- О. де Бальзак, Г. Флобер, Н. Гоголь, Л. Толстой, А. Чехов и др., глубоко чувствуя социокультурные свойства вещи, активно использовали ее для более полного и развернутого раскрытия образов- характеров.
Общеизвестный классический пример в этом отношении представляет гоголевское описание интерьера помещичьих усадеб в «Мертвых душах».
Иногда писатель из многоликой вещной среды выбирает какую-нибудь одну вещь и заставляет многое рассказать о ее хозяине. Так, обычные бытовые вещи: зонтик, калош - выступают как символы духовной апатии, обывательщины в знаменитом чеховском «Человеке в футляре».
Широкие масштабы потребительского отношения к жизни явились причиной развития особого «антивещистского» направления в западной литературе ХХ века.
Пьесы Э. Ионеско «Новый квартирант», «Стулья» и Ж. Мишеля «Игрушки», романы К. Рошфора «Внуки века», Ро-Грие «Ластики», Ж. Перека «Вещи» посвящены как раз проблеме «заброшенности» человека в вещный мир, растворению его личности в последнем. Особое место среди названных произведений занимает роман Ж. Перека «Вещи», удостоенный премии Ренодо за 1965 год. Символично само название романа: в нем сконцентрировано жизненное кредо и идеал героев. По сути дела, основные герои-это не люди, а вещи, которые множатся на страницах романа в геометрической прогрессии. Сами же люди отходят на второй план, они обезличены, автор вначале даже не называет их имен: это просто «он» и «она». Показательна в этом отношении беспощадная характеристика, данная автором «Вещей» его героям: «Так и шли они от антиквариата к книжной лавке, к магазину пластинок, специализированным магазинам, торгующим рубашками, костюмами… обувью - это был их мир, и только к этому устремлялись их честолюбивые мечты и надежды, здесь была настоящая жизнь, та жизнь, которую им хотелось познать, хотелось вести; для обладания этими коврами, эти хрусталем были они произведены на свет двадцать пять лет назад своими матерями…»[9, с.22].
Не менее ярко социокультурное бытие вещи представлено в поэзии. Пожалуй, трудно найти такого поэта, которые не обращался бы к художественному осмыслению образа той или иной вещи.
Поэтическая детализация вещи характерна, в частности, для творчества таких поэтов Серебряного века, как Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, принадлежавших к новому течению акмеизма, М. Цветаева, занимающей особое место в мире русской поэзии.
Именно акмеизм, основателем которого был Н. Гумилев, в отличие от символизма, ориентировал поэтов на постижение земного мира и бытия. Поэтому и вещный мир в его единстве с человеком представлялся самоценным.
Образ вещи в поэзии Н.Гумилева ассоциировался с культурой Европы, Китая, Африки, России. Житейская основа таких вещей, как пеплумы древних богинь, троны из слоновой кости, железный панцирь конкистадора, чаши, вуали и перчатки, перстни и жемчуга и т.д., включается в социокультурное пространство эпох. Пожалуй, только в одном стихотворении Гумилева «Я и вы» звучит презрение к вещам, лишенным духовности, и в этих условиях люди отождествляются с вещами:
Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам-
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам [10, с.11]
Когда же Гумилев обращался к миру вечной тайны, которую он находил в религии, то вещный мир переставал для него существовать. В стихотворении «Евангелическая церковь» герой передает свои ощущения после встречи с безмерностью Высшего Начала:
Когда я вышел, увидали
Мои глаза, что мир стал нем,
Предметы мира убегали,
Их будто не было совсем[11, с.178]
Если обратиться к поэзии А. Ахматовой, то вечная женственность ее души не могла быть равнодушной к вещам. Ахматовской лирической героине дороги воспоминания о темной вуали и пушистой муфте, черном перстне и агатовом ожерелье, наконец, о перчатках… Во многом это и артефакты биографии самой поэтессы. В воспоминаниях о Пушкине возникает образ «его треуголки». В первой «Северной Элегии» образ России Достоевского ассоциируется, к примеру, с «разночинным миром вещей»:
Шуршанье юбок, клетчатые пледы,
Ореховые рамы у зеркал… И тот же плюш на креслах… Все разночинно, наспех, как-нибудь…[12, с. 442-443]
Вещный мир в поэзии О. Мандельштама предстает в двух ипостасях: возвышено и одомашнено, но и в том, и в другом случае – одухотворенно.
Не случайно О. Мандельштам в статье «Утро акмеизма» писал: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя»[13, с.144].
Обратимся к экзистенции вещи в творчестве О. Мандельштама, которая преодолевает утилитарность, заземленность. Так, к примеру, образ вазы как сосуда для фруктов или цветов у поэта приобретает почти мистическое содержание:
Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза, Цветочная проснулась ваза И выплеснула свой хрусталь[14, с. 47].
В стихотворении «Ахматова» воспета ее шаль, но не как бытовая вещь, а как символ печали.
Наиболее ярко социальное содержание вещи проявляется в цикле «Стихи для детей». Впервые на это указывает Е. Путилова, подчеркивая, что эти стихи «… вводят ребенка в мир конкретного современного быта. Поэт, как будто нарочно выбирает самые прозаичные предметы: примус, утюг, ножи, кастрюли…. В его изображении они оказываются необычайно привлекательными, как бы ощущают себя равноправными участниками жизни человека… В мире мандельштамовских вещей возникают свои отношения, звучат маленькие диалоги…» [15 с. 24].
Нужно было иметь гражданское мужество, чтобы написать в 1917 году стихотворение «Кассандре», в котором образ платка, сорванного с головы вещей дочери Приама, поднимается до темы насилия и поругания ценностей русской культуры:
Когда-нибудь в столице шалой,
На скифском празднике, на берегу Невы, При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы...[16 с. 118-119].
В поэзии М. Цветаевой тема вещи нашла оригинальное развитие-от камерно-интимного до социального звучания. Вещный мир в ее стихах является соучастником ее настроения: радости, восторга, горя, отчаянья.
Интересен цикл стихов «Стол» [17 с. 336-341].«Письменный верный стол» в высшей степени очеловечен и одухотворен: «Да, был человек возлюблен- и сей человек был- стол сосновый». Стол в поэтическом воображении Цветаевой превращается в живого свидетеля ее бессонных ночей, побед и поражений. В другом стихотворении «Занавес» поэтесса отождествляет частицу себя с театральным занавесом, который должен оградить ее душу от трагедии.
Продолжение лучших традиций русской поэзии в постижении внутреннего смысла вещи характерно для творчества современного поэта А. Кушнера, который, следуя традициям акмеизма, продолжает открывать тайну вещи, включенную в мировую и отечественную культуру. Суть понимания образа вещи А. Кушнер выразил еще в 80-е годы прошлого века:
Есть у вещи особое свойство - светясь
Иль дымясь, намекать на длину и объем.
Я не вещи люблю, а предметную связь
С этим миром, в котором живем [18, с. 195].
Разные вещные образы вызывают у поэта соответствующие ассоциации. Так, графин в одноименном стихотворении навевает мысли о
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012 горестной мечте «несчастных тех, кто умерли от жажды …». Созерцание скатерти, напротив, утверждает радость бытия: «Скатерть, радость, благодать…».
В «Ночном параде» лирический герой назначает смотр «вещам и понятиям, друзьям и подругам, их лицам и платьям» - и все это делается для того, чтобы заполнить тоску, «шелестящую» рядом.
Образы вещей ассоциируются с хроноцелостностью эпох: если античная ваза с танцующими человечками, один из которых «с головой, повернутой назад», заставляет задуматься о прошлом, то современные пиджаки, очки и т.д. могут быть интересны в будущем:
Говорю тебе: этот пиджак
Будет так через тысячу лет
Драгоценен, как тога, как стяг
Крестоносца, утративший цвет [19, с.235].
По мнению А. Кушнера, вещи физически могут оставаться неизменными, но в отношении с другими, чужими людьми воспринимаются по – другому. Вот, например, воспоминания о сахарнице, принадлежавшей когда – то Л. Гинзбург:
Как вещь живет без вас, скучает ли? Нисколько.
Среди иных людей, во времени ином,
Я видел, что она, как пушкинская Ольга,
Умершим не верна, родной забыла дом [20, с.268].
Будучи поэтическим ясновидцем вещи, А. Кушнер с восхищением относится к старинным работам голландских мастеров. И в то же время он печалится о «жестоком сердце художника» в стихотворении «Ах, этот лимон с кожурой…», навеянном «Завтраком» П. Класа:
В разгаре кровавой войны
Во Фландрии, застланной дымом,
Лоснятся круги ветчины
И пахнут омары приливом…
Бокала хрустальная гладь
Мерцает таинственным светом…
Мы так не умели писать,
Но я не жалею об этом [21, с.78].
Мир вещей в творчестве А. Кушнера интересен, прежде всего, в контексте человеческого бытия. И в этом смысле поэтическое кредо Кушнера и философема Ж. Бодрийяра перекликаются. Так, в «Системе вещей»Бодрийяр подчеркивал: «нас интересуют не вещи, определяемые в зависмости от их функции…, но процессы человеческих взаимоотношений, систематика возникающих отсюда человеческих поступков и связей» [22, с.19].
Подтверждая сказанное, хотелось бы привести удивительный пример, когда натюрморт «Десерт» французского художника XVII века Л. Божена стал «прообразом» современного романа П. Киньяра «Все утра мира». Светло- голубая скатерть, оплетенная бутыль с вином, бокал, оловянное блюдо с вафлями - все эти вещи, сошедшие с натюрморта, приобретают в жизни героя романа композитора де Сент Коломба сакральный смысл, так как являются символами любви к умершей жене, с которой он делил радости утра жизни и которые в любой миг могут быть отняты смертью. В свою очередь, по этому роману был поставлен одноименный фильм.
Таким образом, рассмотренные примеры роли образа вещи в искусстве позволяют сделать вывод о том, что вещи обладают социокультурной природой, и вещи имеют двойственную мерную определенность.
С одной стороны, вещи обладают природными мерами, которые обнаруживаются в специфической материальной структуре,с другой стороны, они всегда выступают как социально значимые, удовлетворяющие духовно-материальные потребности человека.
Понимание социокультурной природы вещи предостерегает от трактовки ее как «вещи в себе» и акцентирует внимание на ее полифункциональности, о чем свидетельствует опыт как мирового, так и отечественного искусства.
Список литературы Социокультурная обусловленность вещи в искусстве
- Герчук Ю. Два интерьера//Декоративное искусство СССР.-1971.-№ 4.
- Виппер Б. Проблема и развитие натюрморта. М.: Азбука, 2005 и др.
- Фриче В. Социология искусства. -М.-Л., 1930.
- Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: Большая Энциклопедия живописи. Автор-составитель В.Н. Сингаевский. АСТ, СПб. Полигон, 2008.
- Энциклопедия натюрморта. М.: ОЛМА -ПРЕСС. Образование, 2002.
- Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т.1.-М.: Изд-во «Наука» 1991.
- Логвинская Э.Я. Интерьер в русской живописи первой половиныХЕХ века. М., 1978.
- Соловьев В.М. Русская культура. С древнейших времен до наших дней.-М.: Белый город. 2004.
- Перек Ж. Вещи//Иностранная литература.-№ 2.-1967.
- Гумилев Н. Собр. соч. в четырех томах. Т.II. -М.: Терра, 1991.
- Ахматова А. Бег времени. М.-Л.: Советский писатель, 1965.
- Мандельштам О.Э. Соч. В 2-х т. Т.2: М., 1990.
- Путилова О. День поэзии. М., 1984.
- Мандельштам О.Э. Соч. В 2-х т. Т.1: М., 1990.
- Цветаева М. Избр. Произведения.-М.-Л.: Советский писатель, 1956.
- Антология новейшей русской поэзии «У Голубой Лагуны»/Сост. К. Кузьминский и Г. Ковалев. Т. 5. М., 2006.
- Бодрийяр Ж. Система вещей.-М.: Рудомино, 1995.