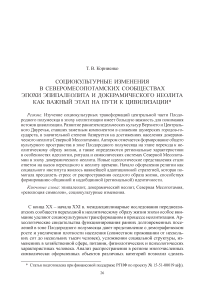Социокультурные изменения в северо-месопотамских сообществах эпохи эпипалеолита и докерамического неолита как важный этап на пути к цивилизации
Автор: Корниенко Т.В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 238, 2015 года.
Бесплатный доступ
Изучение социокультурных трансформаций центральной части Плодородного полумесяца в эпоху неолитизации имеет большую важность для понимания истоков цивилизации. Развитие раннеземледельческих культур Верхнегои Центрального Двуречья, ставших заметным компонентом в сложении шумерскихгородов-государств, в значительной степени базируется на достижениях населениядокерамического неолита Северной Месопотамии. Автором отмечается формирование общего культурного пространства в зоне Плодородного полумесяца на этапе перехода к неолитическому образу жизни, а также определяются региональныехарактеристики в особенностях идеологии, ритуала и символических системахСеверной Месопотамии в эпоху докерамического неолита. Новые идеологическиепредставления стали ответом на вызов переходного к неолиту времени. Началооформления религии как социального института явилось важнейшей адаптационной стратегией, которая помогала преодолеть стресс от распространения оседлогообраза жизни, способствуя формированию общинной и надобщинной (региональной) идентичности
Эпипалеолит, докерамический неолит, северная месопотамия, "революция символов", социокультурные изменения
Короткий адрес: https://sciup.org/14328156
IDR: 14328156
Текст научной статьи Социокультурные изменения в северо-месопотамских сообществах эпохи эпипалеолита и докерамического неолита как важный этап на пути к цивилизации
С конца ХХ – начала XXI в. междисциплинарные исследования переднеазиатских сообществ переходной к неолитическому образу жизни эпохи особое внимание уделяют социокультурным трансформациям в процессе неолитизации. Археологические свидетельства функционирования ранних долговременных поселений в зоне Плодородного полумесяца дают представление о демографическом росте и увеличении плотности населения (совместном проживании от нескольких сот до нескольких тысяч человек), усложнении социальной структуры, изменениях в хозяйственной сфере, питании, физиологических и психологических характеристиках человека. Анализ распространения в регионе многочисленных символически оформленных объектов различных категорий позволил сделать вывод о формировании новой идеологии и новых принципов осуществления культовых практик, появлении и функционировании сложных символических систем, взаимодействовавших в рамках обширного информационного пространства. В наиболее концентрированном виде эта тема была заявлена французским археологом Жаком Ковеном, автором теории о «революции символов» (Cauvin, 1994), открывшим новое направление в изучении ключевых вопросов «неолитической революции». В настоящее время феномен «революции символов» эпохи раннего неолита продолжает активно обсуждаться.
Символы, как известно, представляют собой эффективное средство создания, усиления и укрепления общинной идентичности, средство воздействия на индивидуальное и социальное поведение ( Cohen , 1985; Dialogue on The Early…, 2005; Шмидт , 2011; и др.). Нейробиология демонстрирует возможности воздействия на процесс познания, память и поведение с помощью ритуальных действий (символическая деятельность), архитектурных сооружений (пространственный символизм) и других приемов с использованием символов. Такое воздействие может быть явным, очевидным, либо проявляться на подсознательном уровне, как при фиксировании установки – прайминге1 ( Edelson et al ., 2011; Benz, Bauer , 2013).
Британский исследователь Тревор Уоткинс, говоря о развитии познавательных способностей человека и общества, подчеркивает резкое отличие уровня развития символической репрезентации и символического поведения в Юго-Западной Азии эпохи раннего неолита от уровня эпох предшествующего времени: в неолите представлено не просто большее количество однородных атрибутов верхнепалеолитического периода, а качественно иная ситуация. В нескольких своих работах он отмечает, что основные характеристики современных свойств человеческого познания и культуры (гибкость ума, способность к освоению систем символической репрезентации, представление их в информационных средствах на материальных носителях, контекстно обусловленное или распределенное мышление) уже существовали двенадцать тысяч лет назад, в начале эпохи неолита (Watkins,1992; 2006; 2009; и др.). Ранее, в том числе в эпоху верхнего палеолита, их проявление было менее выражено. Рассматриваемые характеристики, по мнению Т. Уоткинса, столь мощно эволюционировали по той причине, что они оказались необходимыми для построения новых крупных корезиден-тных сообществ, которые начинают формироваться в периоды эпипалеолита и раннего неолита2.
Прежде всего, на территории Леванта и Северной Месопотамии, по политическим причинам исследованным лучше, чем восточное крыло Плодородного полумесяца, в эпоху перехода от эпипалеолита к раннему неолиту фиксируются многочисленные и выразительные свидетельства символического содержания различных категорий: общественные сооружения культового назначения; моделированные с использованием глины, извести, красок, гипса и ракушек, выставлявшиеся в специальных местах человеческие черепа; крупномасштабная антропо- и зооморфная каменная скульптура; монолитные, часто Т-образные, оформленные в геральдическом или натуралистичном стиле рельефами антропо- и зооморфного содержания известняковые стелы; антропо- и зооморфные статуэтки; каменные полномасштабные маски, изображающие лицо человека, и их миниатюры; тайники (или ритуальные групповые «захоронения») человеческих черепов, а также выполненных в человеческий рост, сделанных из камыша, извести и гипса антропоморфных фигур, одно- и двухголовых бюстов; и многое-многое другое. Взлет символизма, на что обращает внимание Ю. Е. Березкин, для территории Северной Месопотамии фиксируется в эпоху PPNA, т. е. раньше, чем в Леванте, где наиболее выразительные и массово представленные символические объекты встречены в слоях времени PPNВ ( Березкин , 2013. С. 169–171; подробнее см.: Корниенко , 2006. С. 16–84; 2011; 2012).
Так называемые «палочки с насечками», известные по раскопкам Халлан Чеми; древнейшие печати и их оттиски из ряда поселений (Букраса, Рас Ша-мры, Кёртык Тепе, Телль эль-Коума II и пр.); а также «фишки» в виде различных тригонометрических фигур (Чайоню, Айн Гхасал, Иерихон, Бейсамун, Бейда, Немрик, Гандж Даре, Магзалия и пр.) свидетельствуют о функционировании в эпоху раннего неолита различных систем учета и контроля, использующих для своих целей символы. В вышедшей в 1992 г. монографии Д. Шмандт-Бес-сера доказательно проводитcя мысль о том, что шумерское письмо постепенно сформировалось из счетной системы, ранними знаками которой служили так называемые фишки/«tokens», использовавшиеся на Ближнем Востоке еще с эпохи докерамического неолита для учета предметов отдельных категорий (Schmandt-Besserat, 1992a; 1992b; Березкин, 2000). Другими (не обязательно альтернативными) источниками соответствующих идей, вполне вероятно, могли быть знаки и изображения на печатях, каменных сосудах, мегалитических стелах, поперечно-желобчатых изделиях, по меткому определению К. Шмидта, – «неолитические иероглифы» (Шмидт, 2011. С. 216–221), выразительно и в большом количестве представленные в материалах ранненеолитических поселений Передней Азии. Таким образом, в целом среди важнейших материально фиксируемых достижений развития информационно-коммуникативных систем в истории человечества «революцию символов» можно определить как первый из сыгравших ключевую роль этапов в эволюции человеческих сообществ. Далее этот ряд будет продолжен изобретением письма, печати и компьютерных технологий.
Изучение социокультурных трансформаций центральной части зоны Плодородного полумесяца в эпоху неолитизации, несомненно, имеет большую важность для понимания истоков цивилизации, поскольку в значительной степени на достижениях населения докерамического неолита Северной Месопотамии базируется развитие раннеземледельческих культур Верхнего и Центрального Двуречья, ставших заметным компонентом в сложении шумерских городов-государств3 ( Бадер , 1989; Корниенко , 2006; Kornienko , 2010).
Большинство современных исследователей отмечает формирование общего культурного пространства в зоне Плодородного полумесяца на этапе перехода к неолитическому образу жизни. Для конкретных ее областей определяются региональные характеристики. Среди утвердившихся в эпоху докерамического неолита особенностей идеологии, ритуала и символических систем Северной Месопотамии выделим:
– стандартизацию и широкое распространение символов;
– коллективизм и выражение общинного единства, сплоченности;
– культ плодородия/плодовитости/фертильности;
– связь человек – животное;
– многочисленность и разнообразие изображений животных при меньшей вариативности в изображениях человека;
– доминирование мужских символов и образов;
– проявление лиминальности4;
– упорядочивание («доместикацию») пространства и времени, что особенно ярко проявилось: в строительстве (на специально для этого подготовленных, отделенных от хозяйственной и жилой зоны участках) монументальных общественных сооружений и их оформлении как специальных мест для проведения ритуала; в погребении умерших на территории поселений – под полами жилых домов или на специально для этого отведенных участках/в постройках; других проявлениях межпоколенческих связей коллективов людей, долгое время проживающих на одной и той же территории;
– укрепление отношений внутри общины через совместные ритуальные действия живых соплеменников, важным элементом которых являлись пиры, и через поддержание осязаемых связей с умершими реальными и/ или мифическими предками, божествами-покровителями;
– цикличность в осуществлении обрядов, связанная с наблюдениями за природными ритмами коллективами, постоянно проживающими на одной и той же территории, приобретаемом ими в это время опыте разведения растений и животных, активизирующим представления о взаимозависимости таких концептов, как «жизнь» и «смерть»;
– выявление нескольких уровней осуществления обрядовых действий с точки зрения их общественной значимости – от индивидуальных до собиравших по несколько сотен (возможно, тысяч) человек межплеменных.
Большинство из вышеперечисленных социокультурных характеристик общие для зоны Плодородного полумесяца эпохи неолититизации. Однако некоторые из них (такие, например, как монументальное строительство общественных сооружений культового назначения, Т-образные каменные стелы, достигающие в высоту 5–7 м, доминирование мужских символов и образов, а также изображений различных видов хищных и опасных животных часто в агрессивных позах) специфичны именно для Северной Месопотамии времени PPNAи переходного PPNA/PPNB периода. Для выяснения причин этой специфики необходимо дальнейшее изучение всего комплекса сопутствующих материалов. В том числе большое значение в данном случае, как представляется, будут иметь исследования палеоклиматологов, палеозоологов, палеобиологов и палеоантропологов.
Общее эмоциональное воздействие, производимое символическими системами Северной Месопотамии, несет ощущение напряженности и масштабной концентрации усилий, связанных, очевидно, с вызовами переходного времени. Одна из причин этой напряженности состоит в постепенном переходе к совместному долговременному проживанию большого количества людей на общей территории. Конкретные механизмы и обстоятельства данного перехода для населения центральной части, как и других областей, зоны Плодородного полумесяца предстоит еще уточнять. Новые идеологические представления, ставшие ответом на отмеченный вызов, и начало оформления религии в качестве социального института5 явились важнейшей адаптационной стратегией, которая помогала преодолеть стресс от распространения оседлого образа жизни, способствуя формированию общинной и надобщинной (региональной) идентичности. Материальная культура в целом и данные символических систем в частности отражают проявление и культивацию чувства сплоченности и единства в коллективах Северной Месопотамии эпохи докерамического неолита. О том, что такая адаптационная стратегия успешно работала, говорит отсутствие данных о распространении агрессии и насилия по результатам палеоантропологического анализа (Erdal, Erdal, 2012); свидетельства поддержания на поселениях системы видимого эгалитаризма; существование устойчивых связей между различными коллективами, зафиксированное, помимо прочего, функционированием общих символических систем с едиными стандартами на значительной территории и такого крупного межплеменного ритуального центра, как Гёбекли Тепе.
Список литературы Социокультурные изменения в северо-месопотамских сообществах эпохи эпипалеолита и докерамического неолита как важный этап на пути к цивилизации
- Фиксирование установки, прайминг (от англ. to prime - инструктировать заранее, натаскивать, давать установку и т. п.) - эффект имплицитной памяти, при котором об- работка воздействия заданного стимула определяется предшествующим действием того же самого или каким-то образом связанного с ним стимула. Вместе с тем реакция на действие данного стимула оказывает влияние на реакцию, возникающую в ответ на последующие стимулы. Прайминг-эффект определяют как «изменение способности опознать или извлечь из памяти объект в результате особой предшествующей встречи с этим объектом» (Schacter, Buckner, 1998. Р. 185). Вместо «объекта» речь может идти об отдельном физическом признаке объекта (если это рисунок - например, о его цвете или размере), о его структуре (если это фраза, то как именно она была построена) или о предметном значении. В последнем случае речь пойдет о «предшествующей встрече» с объектом, который так или иначе семантически связан или сходен с данным (см.: Фаликман). К эффектам прайминга психологи относят изменение скорости или точности решения задачи (перцептивной, мыслительной или мнемической) после предъявления информации, связанной с содержанием или с контекстом этой задачи, но не соотнося- щейся прямо с ее целью и требованиями, а также повышение вероятности спонтанного воспроизведения этой информации в подходящих условиях. Поскольку прайминг, вне зависимости от намерений человека, может повлиять на решение задачи как положи- тельно, так и отрицательно, этот феномен традиционно относится к классу непроиз- вольных и неосознаваемых влияний на решение задач (Фаликман, Койфман, 2005). Эф- фект прайминга используется в политтехнологиях, рекламе, педагогике и других сферах общественной жизни.
- «These capacities were evolved to the high degree that we can recognize because they were essential to the building (both metaphorically and literally) of the new large, permanently co-resident communities that developed through the Epipalaeolithic and early Neolithic» (Watkins, 2013. P. 6). В данном случае Т. Уоткинс, очевидно, имеет в виду появление в отмеченную эпоху значительных по численности оседлых сообществ, а также крупных межплеменных региональных союзов, когда принцип территориального единства начинает играть важную роль в жизни социума (см. также: Корниенко, 2006. С. 81-84; 2011. С. 91)
- Кроме того, распространение культурного влияния достижений докерамического неолита Северной Месопотамии хорошо прослеживается на материалах Центральной и Западной Анатолии неолитического и энеолитического времени (Vor 12.000., 2007; Hodder, Meskell, 2011; и др.)
- Лиминальность (англ. liminality, от лат. Līmen -порог, пороговая величина) -стадия перехода системы из одного состояния в другое, связанная с утратой структуры, иерархии, статуса элементов. В данном случае имеется в виду «пороговое», переходное состояние северомесопотамского сообщества от эпипалеолита к неолитическому образу жизни, что нашло отражение в действовавших на тот момент символических системах
- С основными присущими ей атрибутами, включая обряды, ритуал, сложную символику, специально оформленные сооружения для проведения общих собраний, выделение служителей культа и пр
- Бадер Н. О., 1989. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии. М.: Наука. 368 с.
- Березкин Ю. Е., 2000. Рец. на кн.: Schmandt-Besserat D. Before Writing/Forward by W. W. Hallo. Vol. 1: From Counting to Cuneform. 269 p.; Vol. 2: A Catalogue of Near East Tokens. 416 p. 1992. Austin: University of Texas Press//Археологические вести. № 7. С. 334-338.
- Березкин Ю. Е., 2013. Между общиной и государством. Среднемасштабные общества нуклеарной Америки и Передней Азии в исторической динамике. СПб.: МАЭ РАН. 256 с.
- Корниенко Т. В., 2006. Первые храмы Месопотамии. Формирование традиции культового строительства на территории Месопотамии в дописьменную эпоху. СПб.: Алетейя. 312 с.
- Корниенко Т. В., 2011. Стелы Северной Месопотамии эпохи раннего неолита: предварительный обзор//Археологические вести. № 17. С. 70-95.
- Корниенко Т. В., 2012. Моделирование черепов на территории Леванта в период докеРАмического неолита Б//РА. № 4. С. 80-89.
- Фаликман М. В. Прайминг и прайминг-эффекты (эффекты предшествования). URL: http://old. virtualcoglab.ru/projects/priming.html. Дата обращения: 31.10.2014.
- Фаликман М. В., Койфман А. Я., 2005. Виды прайминга в исследованиях восприятия и перцептивного внимания//Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. № 3. С. 86-97; № 4. С. 81-90.
- Шмидт К., 2011. Они строили первые храмы. Таинственное святилище охотников каменного века. Археологические открытия в Гёбекли Тепе. СПб.: Алетейя. 320 с.
- Benz M., Bauer J., 2013. Symbols of power -Symbols of crisis? A Psycho-social approach to Early Neolithic symbol systems//Neo-Lithics: The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research. № 2. Р. 11-24.
- Cauvin J., 1994. Naissance des divinités. Naissanee de l’agriculture. La Révolution des symboles au Néolithique. Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique. 304 р.
- Cohen А. Р., 1985. The Symbolic Construction of Community. Chichester: E. Horwood; London; New York: Tavistock Publications. 128 р.
- Dialogue on The Early., 2005 -Dialogue on The Early Neolithic Origin of Ritual Centers//Neo-Lithics: The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research. № 2. Р. 3-53.
- Edelson M., Sharot T., Dolan R. J., Duda Y., 2011. Following the crowd: brain substrates of long-term memory conformity//Science. Vol. 333. № 6038. Р. 108-111.
- Erdal Y. S., Erdal O. D., 2012. Organized violence in Anatolia: A retrospective research on the injuries from the Neolithic to Early Bronze Age//International Journal of Paleopathology. № 2. Р. 78-92.
- Hodder I., Meskell L., 2011. A Curious and Sometimes a Trifle Macabre Artistry: Some Aspects of Symbolism in Neolithic Turkey//Current Anthropology. Vol. 52. № 2. Р. 235-263.
- Kornienko T. V, 2010. Two Stages in the Process of Forming Cult Construction Tradition in Prehistoric Mesopotamia//Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (May, 5-10ώ 2008, «Sapienza» -Università di Roma)/Eds P. Matthiae, F. Pinnock, L. Nigro, N. Marchetti. Vol. 1. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. Р. 807-819.
- Schacter D. L., Buckner R. L., 1998. Priming and the brain. Review//Neuron. Vol. 20. P. 185-195.
- Schmandt-Besserat D., 1992а. Before Writing. Vol. 1: From Counting to Cuneform. Forward by W. W. Hallo. Austin: University of Texas Press. 269 p.
- Schmandt-Besserat D., 1992b. Before Writing. Vol. 2: A Catalogue of Near Eastern Tokens. Forward by W. W. Hallo. Austin: University of Texas Press. 416 p.
- Vor 12.000 …,2007 -Vor 12.000 Jahren in Anatolien. Die ältesten Monumente der Menschheit/Hrsg. Badisches Lendesmuseum Karlsruhe. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag. 595 S.
- Watkins T., 1992. The beginning of the Neolithic: searching for meaning in material culture change//Paléorient. Vol. 18. № 1. P. 63-75.
- Watkins T., 2006. Architecture and the symbolic construction of new worlds//Domesticating Space: Construction, Community, and Cosmology in the Late Prehistoric Near East/Eds E. B. Banning, M. Chazan. Berlin: Ex oriente. Р. 15-24. (Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence, and Environment; 12.)
- Watkins T., 2009. Ordering time and space: Creating a cultural world//Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East/Eds J. Cordoba, M. Molist, C. Perez, I. Rubio, S. Martinez. Madrid: Universidad Autonoma de Madrid. Р. 647-659.
- Watkins T., 2013. Neolithisation Needs Evolution, as Evolution Needs Neolithisation//Neo-Lithics: The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research. № 2. P. 5-10.