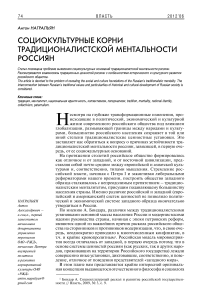Социокультурные корни традиционалистской ментальности россиян
Автор: Награльян Антон Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 6, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме выявления социокультурных оснований традиционалистской ментальности россиян. Рассматривается взаимосвязь традиционных ценностей россиян с особенностями исторического и культурного развития российского общества.
Традиция, менталитет, национальная идентичность, коллективизм, патернализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170166449
IDR: 170166449
Текст научной статьи Социокультурные корни традиционалистской ментальности россиян
Н
есмотря на глубокие трансформационные изменения, происходящие в политической, экономической и культурной жизни современного российского общества под влиянием глобализации, размывающей границы между народами и культу -рами, большинство российского населения сохраняет в той или иной степени традиционалистские ценностные установки. Это заставляет нас обратиться к вопросу о причинах устойчивости тра диционалистской ментальности россиян, зависящей, в первую оче редь, от ее социокультурных оснований.
НАГРАЛЬЯН Антон
На протяжении столетий российское общество формировалось как отличное и от западной, и от восточной цивилизации, пред ставляя собой нечто среднее между европейской и азиатской куль турами и, соответственно, типами мышления. Стремление рос -сийской власти, начиная с Петра I и заканчивая либеральными реформаторами нашего времени, построить общество западного образца сталкивалось с непреодолимым препятствием — традицио-налистским менталитетом, присущим подавляющему большинству населения страны. Именно различие российской и западной (евро-пейской и американской) систем ценностей не позволило полити -ческой и экономической системе западного образца окончательно утвердиться в России.
По мнению А. Бондара, различия между традиционалистскими установками основной массы населения России и модернистскими идеями руководства страны, начиная с эпохи петровских реформ, являются одной из важнейших причин раскола российского обще ства на сторонников и противников модернизации, что, в свою оче редь, неоднократно приводило к многочисленным конфликтам, в т.ч. и крайне кровопролитным1. Российская модель мировосприя-тия всегда отличалась от западной, в первую очередь потому, что в основе системы ценностей россиян (как русских, так и других наро-дов, проживавших на территории Российского государства) лежали совершенно иные установки, диктовавшие, соответственно, и пове дение, отличное от поведения представителей «западного мира».
В этом плане нам представляется крайне интересной оригиналь-ная концепция выдающегося отечественного философа и социолога
А.А. Зиновьева, который акцентировал внимание на фундаментальных различиях российской и западной цивилизационных систем. Эти различия настолько велики, что анализировать российское общество посредством его сравнения и сопоставления с Западом просто невозможно. В основе «западнизма», т.е. социокультурной модели, присущей западным обществам, лежит, по мнению А.А. Зиновьева, деловой аспект поведения человека, для которого свойственны такие качества, как индивидуализм, самостоятельность, активность, самодисциплинированность, практицизм, трудолюбие, нацеленность на достижение успеха любыми способами. Именно эти качества, характерные для менталитета европейцев, в особенности протестантов, способствовали развитию капиталистических отношений и формированию модернистского общества.
Мы можем видеть, что, в противоположность набору качеств, характерному для «западоида» (по выражению Зиновьева), российской ментальности свойственны совершенно иные характеристики. Это приоритет коллективистских ценностей над индивидуалистическими, надежды на патерналистское государство или работодателя над самостоятельностью и самодис-циплинированностью. Это равнодушие к карьеризму и достижению материального благополучия, которое «должно прийти само», а не в результате целенаправленных усилий со стороны конкретной личности. Точно так же мы видим и более благосклонное отношение к патерналистской заботе со стороны государства, чем к свободе и независимости, требующей самодисциплинированности и социальной ответственности. Даже в 2002 г., согласно материалам социологических исследований, лишь 0,5% высказались в поддержку полной демократии, пусть даже и при отсутствии твердых гарантий личной безопасности, тогда как 58,7% респондентов заявили о поддержке твердой власти, гарантирующей безопасность даже за счет отъема определенных свобод1. Примечательно, что значительная часть населения, в особенности сторонники традиционалистского пути развития российского общества, негативно относится к многопартийности, введение которой в свое время рассматривалось едва ли не как одно из важнейших достижений демократических реформ конца 1980-х гг.: по данным социологических исследований, среди традиционалистов многопартийность приветствуют лишь 29% респондентов, и даже сторонники модернизации российского общества разделились практически поровну в вопросе об отношении к многопартийной демократии2.
Аналогичным образом обстоит дело и в отношении вопроса о производстве и потреблении – до сих пор в российском обществе существует понимание «излишнего» потребления и «излишнего» труда, что, в частности, проявляется и в том, что современный россиянин предпочитает скорее получать меньшую заработную плату за приятный труд, чем большие деньги за работу, не приносящую удовлетворения или занимающую слишком много времени.
С. Гавров подчеркивает, что «в традиционном обществе человек работал для удовлетворения первичных, ограниченных потребностей, не проявляя, как правило, склонности к производству и потреблению сверх этой минимально необходимой нормы; перманентное расширение потребностей, использование в повседневной жизни различных, в том числе и технических, новшеств, могло восприниматься скорее как патология, свойственная лишь узкому кругу аристократии»3. Совершенно иное отношение мы видим в обществе модерна, которое характеризуется гипертрофией как производства, так и потребления. Но это общество модерна есть непосредственный продукт западной цивилизации.
Здесь следует обратить внимание на тот факт, что западное капиталистическое общество формировалось, прежде всего, на идеологическом фундаменте протестантизма, в особенности кальвинизма, провозгласившего трудолюбие, самодисциплинированность и бережливость важными добродетелями, а материальное благополучие – божьей наградой за добросовестный труд. Влияние протестантизма на становление капиталисти- ческих отношений и капиталистической ментальности отмечалось еще М. Вебером в работе «Протестантская этика и дух капитализма». Российская же ментальность испытала большое влияние православия, для которого были чуждыми меркантильные ценности, было характерно жалостливое и покровительственное, а не презрительное отношение к бедным и нищим, причем подчеркивалась богоугод-ность не столько богатства, сколько бедности. (Не случайно юродивые и странники пользовались в России симпатиями широких слоев населения вплоть до начала ХХ в., тогда как в Западной Европе уже с периода зарождения капиталистических отношений практиковалось помещение нищих в специальные работные дома, а в некоторых государствах за попрошайничество и бродяжничество полагалась даже смертная казнь.)
Одновременно в русской культуре имел место и крайне значительный языческий компонент, по мнению исследователей даже превосходивший по своему влиянию компонент православный, сохраняющий свое влияние посредством определенных черт в ментальности русского народа вплоть до последнего времени. Н. Бердяев пишет, что «в типе русского человека всегда сталкиваются два элемента – первобытное, природное язычество, стихийность бесконечной русской земли и православный, из Византии полученный, аскетизм, устремленность к потустороннему миру. Для русского народа одинаково характерен и природный дионисизм, и христианский аскетизм»1.
Благодаря развитию капиталистических отношений, в западном обществе традиционный тип культуры оказался вытесненным культурой модернистской, однако в России этого не произошло. Значительная часть россиян до сих пор сохраняет традиционалистские ценности, негативно воспринимая любые попытки навязывания западной культуры и западного образа жизни, которые рассматриваются как однозначно чуждые для российского общества.
На протяжении столетий для российского менталитета, по мнению многих исследователей, была характерна своеобразная «догосударственность», хотя существование российского государства насчитывает уже более тысячи лет. Русская крестьянская община фактически не нуждалась в государстве, поскольку сама была «государством в государстве», жила по своим традициям и в соответствии со своими нуждами, причем собственно государство воспринималось скорее как нечто негативное, поскольку приносило крестьянству вред, облагая его налогами или призывая рекрутов на военную службу.
Догосударственность, присущая российскому менталитету, проявляется в настоящее время и в том, что значительная часть населения предпочитает жить, даже вести бизнес, руководствуясь не формальными юридическими законами, а принципами договоренности на личном уровне, определенными неформальными правилами поведения, – иначе говоря, жить «не по закону, а по понятиям», т.е. по обычаю.
Несмотря на то что экономические реформы конца 1980-х – начала 1990-х гг., заключавшиеся в установлении рыночных свобод и, следовательно, подразумевавшие развитие частного предпринимательства, способствовали распространению индивидуалистических ценностей, последние были восприняты лишь некоторыми категориями населения, прежде всего предпринимателями и интеллигенцией. Вплоть до настоящего времени россияне продолжают указывать такие традиционные коллективистские ценности, как семейственность, дружбу, общение в числе наиболее значимых для них, причем значимость родственных или дружеских отношений сравнима по степени важности с материальным благополучием и профессиональной самореализацией даже для категории предпринимателей.
Коллективистские устремления, характерные для русской ментальности и ориентирующие индивида на существование внутри общины, в неразрывной связи с ней, делали невозможным адекватное восприятие русским человеком государства, его предназначения, своих функций и обязанностей как гражданина данного государства. Несмотря на то что российская власть в течение многих веков ориентировалась на построение сильного государства, расширение территории и влияния сначала в регионе, а потом и на мировом уровне, сохранялись глубокие противоречия между державногосударственническими амбициями элиты и традиционными ценностями русского народа, эту государственность исключавшими.
Социологи подчеркивают едва ли не антипатию, которую значительная часть российских граждан питает к институтам гражданского общества (не вписывающимся в схему традиционалистского развития российского государства): «на сегодняшний день уровень доверия населения профсоюзам, политическим партиям, общественным организациям очень низок, а профсоюзы и политические партии и вовсе находятся в зоне выраженного неодобрения – доля опрошенных, не доверяющих им, значительно превышает долю доверяющих»1.
Коллективистские установки россиян, сохраняющиеся и в настоящее время, обусловлены и таким важным фактором, как боязнь отрыва от определенной общности, которая издавна была присуща сельскому жителю и удерживала его от переезда в город, где условия проживания все же были лучшими, чем в деревне. С.К. Бондырева пишет, что «развитие человечества – это постепенный отрыв от земли все большего числа людей при непременном условии – сохранении способности села кормить город. Процесс ухода людей в города в нормальных условиях именно этим и лимитируется. В нашей стране естественность этой исторической тенденции была нарушена вследствие того, что задача расширения промышленности (и городов) стала самодовлеющей, решалась ценой разорения села, причем в “кратчайшие сроки”»2. Однако, лишаясь связей с общиной и попадая в город, крестьянин оказывался в одиночестве в чуждом и враждебном мире, что неоднократно становилось причиной «падения на дно», люмпенизации и деградации в моральнонравственном отношении.
Особенно четко черты традиционалистской ментальности россиян проявляются в период различных социальных катаклизмов, вызванных политическими или экономическими причинами. В первую очередь отметим, что для россий- ского общества, как и для любого общества, сохраняющего традиционалистскую ментальность, крайне большое значение имеет постоянный поиск источника «глобального зла» – тех проблем, с которыми сталкиваются люди в условиях нестабильности. В качестве этого источника могут выступать Запад, олигархи, мафия, правительство, представители определенных этнических меньшинств. Соответственно, с выплеском негативной энергии, направленной на указанный «источник зла», происходит и социальное успокоение.
Следует согласиться с А. Безансоном, который подчеркивает, что с периода Смутного времени начала XVII в. и вплоть до современности в России происходит постоянная смена двух начал. Первое характеризуется установлением режима свободы и социального благополучия, во время которого создаются возможности для развития частной инициативы, что, в свою очередь, стимулирует активных и предприимчивых людей вкладывать свои знания, силы и средства в развитие экономической и культурной жизни страны. На смену этому периоду приходит едва ли не абсолютное господство государства с тоталитарными амбициями, при этом происходит подчинение всех или большинства сфер жизнедеятельности общества государству.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в современном российском обществе в целом сохраняется влияние традиционалистских ценностей, подразумевающее и соответствующую специфику социального поведения большинства российского населения. Сохранение традиционалистской ментальности обусловлено влиянием тех социокультурных условий, в которых происходило формирование российского общества и российской государственности. Кардинальные различия в менталитете западного человека и россиянина, проявляющиеся даже в условиях современного глобализированного общества, не позволяют России развиваться посредством полного заимствования западноевропейской или американской модели социально-экономического и политического устройства. Необходим поиск собственного пути развития, способного ответить на вызовы современного мира, но в то же время и гарантирующего сохранение национальной идентичности.