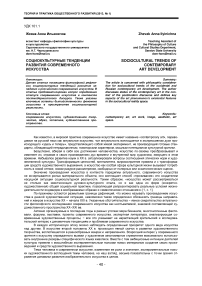Социокультурные тенденции развития современного искусства
Автор: Жевак Анна Ильинична
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена философской рефлексии социокультурных тенденций развития западного и российского современного искусства. В статье проблематизирован вопрос определения статуса современного искусства в контексте постмодернистского дискурса. Также указаны ключевые аспекты бытийственности феномена искусства в пространстве социокультурной реальности.
Современное искусство, художественное творчество, образ, эстетика, художественное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/14934784
IDR: 14934784 | УДК: 101.1
Текст научной статьи Социокультурные тенденции развития современного искусства
Как известно, в мировой практике современное искусство имеет название «contemporary art», переводимое на русский язык как актуальное искусство, чья актуальность воплощается в экспрессивном духе происходящего «здесь и теперь», представляющего собой живой эксперимент, не производящий готовые стандарты, обладающий нетрадиционным, новаторским характером, мощным потенциалом культурной критики.
Безусловно, вбирая в себя все достижения человечества, искусство по-своему преобразовывает и изменяет их, отражая в своих произведениях дух времени и внутренний мир художника, живущего в этом времени. Небывалое развитие науки в ХХ в. актуализировали вопросы соотношения этических норм и художественной культуры. Трансформация ценностей, менталитета, мировосприятия привела и к трансформации средств художественного выражения, а искусство как особая сфера культурной жизни вызывает потребность в новой оптике, новом ракурсе рассмотрения, свободных от полярных или эсхатологических оценок.
Значение произведения искусства в контексте парадигмы актуального, современного искусства не исчерпывается ролью материального объекта, оно воплощает способ «проживания» его создателем насущной ситуации социокультурной реальности. Таким образом, «искусство может рассматриваться не столько как квинтэссенция духовно-культурного опыта, но и как одна из форм (конкретнохудожественная) общей социальной практики, позволяющей репрезентировать реальные условия жизнедеятельности индивидов в воображаемых образах и символических отношениях» [1, с. 1].
По-прежнему остаются размытыми границы дефиниций, что можно называть произведением искусства в данной художественной ситуации, невозможно также определенно обозначить границы направлений и жанров в искусстве XX - начала ХХI в. Указанные обстоятельства - явное свидетельство актуальности философского исследования современного искусства как неотъемлемой, знаковой составляющей художественного пространства XX-ХХI вв.
Активно организуемые в последние годы в разных уголках мира биеннале, многочисленные фестивали, форумы, выставки, проекты современного искусства, экспертная литература, анализирующая современные художественные процессы, - все это указывает на нарастающий зрительский и исследовательский интерес к динамичным тенденциям и проблемам современного искусства.
В каждую историческую эпоху можно наблюдать определенный приоритет одного вида искусства над другим. В искусстве второй половины XX в. произошел явный скачок в развитии художественного творчества, воплотившегося в разнообразных жанрах и направлениях. Возросший интерес у современного зрителя к искусству оправданного вызвал у художников закономерное стремление максимально использовать внутренние резервы специфического языка живописи. Вместе с тем амбициозные интенции деятелей культуры привели к масштабным экспериментальным поискам новых материалов создания своих произведений и средств художественного выражения.
Тема человека в современном искусстве, изменение ее роли и значения, экспериментальные поиски художественного воплощения темы человека, на наш взгляд, весьма показательны с точки зрения отражения динамики развития изобразительного искусства в целом.
Как свидетельствует история современного искусства, с начала ХХ в. тема человека становилось менее заметна и значима в искусстве, антропологизм уступил место абстрактному, кинетическому, концептуальному и другим жанрам искусства. В 20-е гг. ХХ в. Х. Ортега-и-Гассет прозорливо отмечал наметившиеся ориентации в современной для философа художественной среде: «Пытаясь определить общеродовую и наиболее характерную черту нового творчества, я обнаруживаю тенденцию к дегуманизации искусства… В новой картине… художник не ошибается и не случайно отклоняется от "натуры", от жизненно-человеческого, от сходства с ним, - отклонения указывают, что он избрал путь, противоположный тому, который приводит к "гуманизированному" объекту. Далекий от того, чтобы по мере сил приближаться к реальности, художник решается пойти против нее. Он ставит целью дерзко деформировать реальность, разбить ее человеческий аспект, дегуманизировать ее» [2]. Данные интенции настойчиво сопровождали вектор развития искусства в ХХ в., и сегодня вопрос гуманистического потенциала различных направлений художественной культуры по-прежнему актуален и затрагивает эстетические и этические аспекты бытия изобразительного искусства.
Беспредметность как принцип живописи нивелировала человеческое начало, экспериментаторские поиски супрематизма, экспрессионизма, дадаизма и ряда других направлений изобразительного искусства первых десятилетий ХХ в., наполнили форму (например, известный «Черный квадрат» К. Малевича) и вещь (например, не менее знаменитый «Фонтан» М. Дюшана) ценностным смыслом, тем самым человек утратил приоритетный статус изображаемого сюжета среди художников в начале ХХ в. В многочисленных, стремительно сменяющих и отрицающих друг друга течениях исчезает сам предмет искусства. Своим прикосновением художник превратил в произведение искусства любою вещь (писсуар, помойный мешок, кирпич и др.), а позже предметом искусства становится действие само по себе (хэппеннинг). Выразителем аксиологической функции искусства стала вещь, объект искусства перестала отождествляться с человеком и его свойствами.
Динамика развития искусства в последующие десятилетия ХХ в. вернула тему человека в художественное пространство актуального искусства в форме символов (как например, в поп-арте), действия (перформансы, хепенинги, инсталляции и др.) и прочего. Показателен пример деятельности Д. Бойса, творившего и развивавшего идеи социальной скульптуры в условиях андеграунда в обществе ГДР, когда тема воплощения человека в тоталитарном инвайронменте, безусловно, звучала пронзительно остро. Но не менее показателен, к слову, на наш взгляд, ренессанс идей Д. Бойса и взрыв исследовательского и зрительского интереса к его творчеству в современной России, когда работы былого экспериментатора рассматриваются уже в качестве классика жанра [3].
Однако, возвращаясь к вопросу о трансформации антропологической темы в искусстве ХХ в., заметим, что отношение к таким новым формам проявления человека в искусстве осталось, как «бесчеловечное». Воспитанный смелыми экспериментами модерна и постмодерна зритель перестал относиться к искусству как к носителю и выразителю ценностного посыла. Человек как тема, вновь появившаяся в искусстве, больше не расценивался как нечто «человеческое», а рассматривался с тех же позиций, что и «черный квадрат». И все же, несмотря на процессы «разотчуждения» в искусстве ХХ в., различные формы реализации бытия современного искусства выполняют особую роль в постижении реальности, выражая в своих лучших образцах авангардистский процесс в духе Ж.-Ф. Лиотара [4].
Другим немаловажным аспектом динамики культуры явилось ее вовлечение и полагаемый ею способ символической репрезентации предметов значениями в сферу экономики сначала индустриального, а затем и постиндустриального общества в ХХ в., что привело к реорганизации всего корпуса культурных смыслов, преобразовав их в соответствии с логикой товарности, о чем говорили уже В. Беньямин и Т. Адорно [5]. Современное искусство своей бесконечной изменчивостью и концептуальным усложнением художественного языка как раз и отражает неизбежную эскалацию различий основного капитала постиндустриальной цивилизации, представляя различительную способность мышления в качестве индикатора усложнения социума.
Не менее показательной тенденцией развития искусства в ХХ в. явилось его расширительное действие: масштабность арт-практик выразилось в стремлении «охватить все сферы человеческого бытия: от религиозного экстаза и далее до самых «неэстетических» областей нашего существования».
Акцентуация (применяя терминологию К. Леонгарда) шокирующего эффекта в действах современных художников позволяет сделать вывод, что ныне сакральные, экзистенциальные темы (например, уход человека из жизни), обрели визуальные формы презентации [6, с. 28]
С.Л. Кропотов писал, что «постнеклассическая философия, и искусство в равной степени ведут общий поиск основ духовной сферы современного мира, одна из преобладающих характеристик которого принадлежит ускорившемуся течению времени» [7, с. 4]. Сущностная тенденция развития искусства сегодня отображается в рефлексии следов времени, и следует подчеркнуть, что отношение со временем в пространстве субъективности придают статус современности и философии и искусству.
Темпоральные интенции современного искусства, по мнению автора статьи, проявляется и в том, что именно «ускользающий мир» пост-постмодернизма влечет следующую характеристику современной культуры – «явления, репрезентируемые как новейшие вызовы и называемые «современным искусством», безнадежно устаревают» [8, с. 107], как верно отмечал российский искусствовед П. Родькин. Возможно, именно шокирующее впечатление является сегодня одним из самых значимых мерил долговечности публичной памяти о произведении искусства или претендующем на звание быть таковым. Новаторские эксперименты становятся историческими хрониками, и только логика политической экономии знака в бодрий-яровском ключе не позволяет им уйти со сцены.
Одним из ярких примеров противоречивых тенденций динамики развития современного искусства, ориентирующихся на шокирующий эффект, является деятельность патологоанатома Гюнтера фон Хаген- са, изобретшего метод пластинирования и экспонирования человеческих тел, граничащего, по мнению церкви и различных представителей широкой общественности, с надругательством над умершими, что приводило даже к судебным разбирательствам в Германии. Вопрос об отнесении деятельности Г. фон Хагенса к сфере искусства в соответствии с общепринятыми критериями остается для автора статьи открытым. Однако иллюстративное обращение к примеру Г. фон Хагенса оправдано тем, что впечатление от его выставок воспроизводит одну из важнейших, на наш взгляд, интенций существующего ныне искусства: даже тогда, когда «художник не ставит себе специальной задачи шокировать, действуя всего лишь в рамках существующих конвенций художественного мышления, он и в этом случае воспроизводит пределы терпимости (толерантности), как необходимого критерия художественности». Действительно, знакомство с работами Г. фон Хагенса вызывает поистине шокирующее впечатление и ожесточенный спор между противниками и адептами творений патологоанатома.
Кроме того, эксперименты Г. фон Хагенса актуализируют давнюю тему искусства в модусе категории телесности, в связи с чем отметим следующую не менее знаковую и значимую характеристику современного искусства, выразившуюся в работах анатома: «всепоглощающее телесностное мироощущение» (Бычков), настойчиво нараставшее в искусстве ХХ в., особенно в арт-практиках его второй половины, облекло, на наш взгляд, в экспонатах (если уместно подобное название) Гюнтера фон Хагенса физикалист-ское, плотское воплощение в наивысшей, в радикальной степени.
В европейском обществе порог толерантности по отношению к работам Г. фон Хагенса значительно выше, нежели в России, что обосновано, по нашему мнению, всей логикой развития направлений современного искусства в Европе и России в ХХ в. Например, новаторские эксперименты западных художников и скульпторов (энвайроментальное искусство) еще многие десятилетия назад стали неотъемлемой частью повседневной реальности городского пространств. В России же художественная культура под влиянием официальной идеологии долгие годы развивалась в реалистическом, конструктивистском, соцреа-листском дискурсе, что не могло не отразиться на устоявшихся критериях художественного вкуса россиян, преимущественно тяготеющих к избеганию авангардистских и постмодернистских экспериментов.
И все же деятельность немецкого анатома дедуктивно подтверждает установку современного искусства - расширение индивидуального сознания ко всему новому, даже в том случае, когда акты современного искусства провоцируют раздраженную реакцию традиционно мыслящих на художественные инновации, преступающие постулаты «хорошего вкуса» и общепринятые конвенции.
Необходимо отметить, что, несмотря на всю сложность и противоречивость современного искусства, его новых видов, художественных направлений и тенденций, оно всегда открыто для восприятия и подчас абсолютно свободной трактовки авторского идейного замысла зрителем, диалог с которым может показаться ничем не ограниченным и не сдерживаемым. Художественные практики, входящие в структуру современного искусства, создают подвижное и быстро трансформирующееся пространство искусства и культуры, которое очень дифференцировано, основано на принципе различия, порождает сложное единство - «единство-в-различии». Данный аспект является эвристичным потенциалом современного искусства, фундирующим принципы свободы художника и его творческого начала. Разнообразие и активность различных творческих практик в наши дни не только фиксируют характер эстетических предпочтений, общий уровень развития искусства, но выполняют важную практическую социально значимую роль формирования мультикультурной среды, основанной на приоритете толерантности.
Ссылки:
-
1. Галеева Т.А., Прудникова А.Ю. Художественные практики ХХ века как школа толерантности. Екатеринбург, 2008.
-
2. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М., 2000.
-
3. Блуме О. Бойс считал себя последователем Леонардо // Интервью с куратором московской выставки Д. Бойса в Государственном музее современного искусства Российской академии художеств (октябрь–ноябрь 2012 г.). URL: http://www.artguide.ru/ru/articles/13/ (дата обращения: 20.11.2012).
-
4. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998.
-
5. См.: Беньямин В., Адорно Т. Из переписки с Теодором В. Адорно // Беньямин В. Франц Кафка = Franz Kafka / Пер. М. Рудницкого. М., 2000.
-
6. Мещеркина-Рождественская Е.Ю. Визуальный поворот: анализ и интерпретация изображений // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность / под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, В.Л. Крутки-на. Саратов, 2007. С. 28-42.
-
7. Родькин П. Экзистенциальные интерфейсы. Опыты коммуникативной онтологии действительности. М., 2004.
-
8. Кропотов С.Л. Проблема «Экономического измерения» субъективности в неклассической философии искусства:
-
9. Официальный сайт выставки «Körperwelten & Der Zyklus des Lebens». URL: http://www.koerperwelten.de/ (дата
обращения: 20.11.2012).
-
10. См.: URL: http://www.etoday.ru/2009/05/gunther-von-hagens-exhibition.php (дата обращения: 20.11.2012).
автореф. … д-ра философ. наук. Екатеринбург, 2000.